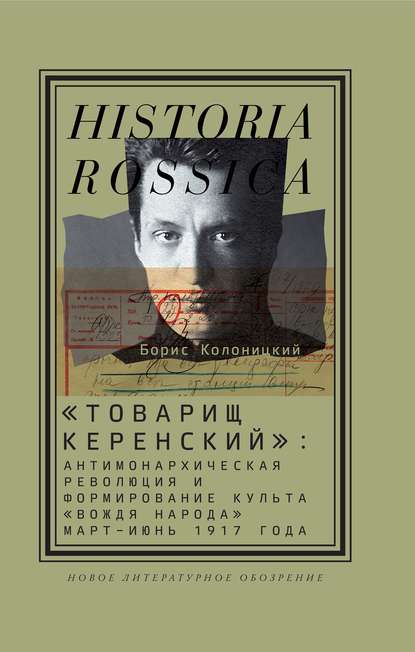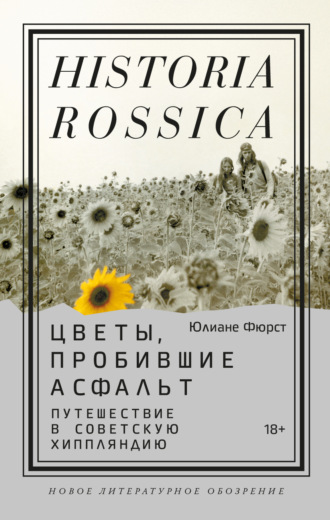
Полная версия
Цветы, пробившие асфальт. Путешествие в Советскую Хиппляндию
Но задолго до того, как Кисс стал героем криминальной хроники в New York Post, он был советским подростком, очарованным ангелами. Его история – это не только история человека субкультуры, но и история позднего социализма. В свидетельствах хиппи можно встретить много того, что выходит за рамки парадигмы «исключительности». И в его рассказах встречается множество ситуаций, в которых он и его друзья не выделялись из позднесоветского общества, а были его органической частью. Кисс был из семьи советской интеллигенции – постоянно растущей демографической группы в стране с очень успешной образовательной политикой9. Но именно эта группа населения – городские, хорошо образованные дети из семей профессионалов – стала наиболее отчужденной частью советского общества. Мать Валерия, работавшая учительницей начальных классов, сделала успешную карьеру и получила возможность поехать на фестиваль молодежи и студентов в Восточный Берлин в 1973 году, чтобы познакомить своего сына с самой захватывающей стороной советского интернационализма. Его любовь к книгам тоже была совершенно типичной для хорошего советского воспитания10. И его разочарование в официальной идеологии, и поиск альтернативного образа жизни – все это не отдаляло его от подавляющего большинства населения эпохи позднего социализма, а, наоборот, объединяло с ним. Потому что очевидно: к середине 1970‐х советское общество реагировало на недостатки (и, безусловно, возможности) социалистической действительности большим количеством механизмов, предназначенных для создания пространств и сообществ, которые одновременно и были связаны с официальной советской системой, и находились за ее пределами. Алексей Юрчак назвал их пространствами «вненаходимости» и отождествил со средой обитания своего поколения продвинутой молодежи, которой удавалось жить одновременно внутри системы и вне ее. В действительности было много разных меняющихся вариантов этих самых пространств «вненаходимости», включавших в себя загородные дачи и кухни в квартирах, дикие пляжи и курилки в крупных библиотеках, где собиралась не только молодежь, но и люди разного возраста и социального происхождения11. Все эти пространства «вненаходимости» объединяло то, что они способствовали развитию альтернативных сообществ, бросающих вызов господству социалистических структур.
Хиппи, такие как Офелия, Азазелло и Кисс, были экстремальным проявлением этого процесса. Их судьба и образ жизни выглядят удивительно символичными для многих описаний позднего социализма. Наряду с описаниями пространств, вневременность позднесоветской жизни стала общепризнанной характеристикой мира, который был «казалось, навсегда» и который создал культуру, сознательно отказавшуюся от привязки ко времени. Хиппи, которые, как «ангелы», «вечные дети» и «существа из космоса», олицетворяли это ощущение замершего времени и исчезновения будущего как содержательного понятия12. Они представляют собой отличный пример для изучения того, как далеко можно было уйти от общераспространенных нормативных представлений, которые сами определялись и постоянно пересматривались в результате изменений норм и правил. Таким образом, советские хиппи очерчивали контуры реально существовавшего советского проекта, высвечивая не только его границы, но и территорию внутри и, собственно, его ядро. Хиппи не находились за пределами позднего социализма, они были фактором, его сформировавшим.
История Кисса напоминает нам о том, что маргинальность не только была выбором, но и навязывалась извне. Советский Хиппиленд создавали не только сами хиппи, но и другие игроки, включая тех, чье присутствие было нематериальным или воображаемым: разумеется, среди них был Запад, который вдохновлял и «развращал» советскую молодежь; был здесь и современный глобализм, с которым официальный СССР заигрывал, но который одновременно и осуждал как провозвестника капитализма; были и взаимоотношения между послевоенными поколениями. Запад и его различные представители стали внешним собеседником в этом внутреннем диалоге: собеседником, который редко вмешивался в разговор напрямую, но чье воображаемые внимание и мотивация влияли на поступки каждого советского действующего лица. И в самом деле, во времена позднего социализма Запад присутствовал повсюду, как закадровая музыка. Кисс практически не упоминает Запад, а о западных хиппи говорит лишь вскользь. Но не потому, что он не ценил их идеи или не знал, что власти преследовали его в том числе и за любовь к западным вещам: музыке, одежде и идеалам свободы, – нет, он не упоминал Запад, потому что он воспринимал его как данность. Точно так же как и репрессивные меры против хиппи со стороны советских властей считались чем-то само собой разумеющимся – ничего необычного. Кисс отмечает, что реакция общества побуждала его действовать так, а не иначе. Именно из‐за враждебности своих сограждан он искал себе особое сообщество и придерживался своих убеждений. Однако здесь важен не личный взгляд Кисса, окрашенный его собственным опытом еврейского мальчика в стране, которая была пропитана и скрытым, и неприкрытым антисемитизмом, а то, насколько тесно были связаны друг с другом советская действительность и самосознание советских хиппи.
Большинство молодых людей начинали свою «хипповскую карьеру» с прослушивания музыки «Битлз» и чтения заметок про хиппи Сан-Франциско (которые, например, публиковались в советском журнале «Вокруг света»). Но затем все они быстро менялись под влиянием среды, в которой росли и социализировались и в которой они были обречены остаться на всю жизнь. Это относилось как к отдельным хипповским судьбам, так и к сообществу, созданному советскими хиппи, которые дали ей странное имя Система. Это название не ошибка и не случайность. Система хиппи отражала другую систему и бросала вызов именно ей – официальной системе советской власти, которую в разговорной речи также называли просто «системой». Хиппи и придумать не могли ничего лучшего для того, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к советской жизни – хотя они и утверждали обратное. Несмотря на то что их любимая фраза во время интервью – «Я не вписывался в советскую систему», в действительности этим противоречием между самоопределением и отчетливой лингвистической и культурной принадлежностью к советской официальной системе во многом определяется существование советских хиппи. Отношения между советской системой и Системой включали в себя отрицание, подражание, враждебность, зависимость, торг, использование и репрессии. Короче говоря, единственное, что оставалось неизменным, это сам факт отношений: чем бы ни занимались хиппи, что бы ни делали советские власти и как бы ни вело себя советское общество, все участники были тесно друг с другом связаны, находясь внутри страны с закрытыми границами и глубоко укоренившимися духовными ценностями. Их объединяли идеи, основополагающие как для хиппи, так и для советских людей; эти идеи, на первый взгляд, казались враждебными друг другу, но при ближайшем рассмотрении обнаруживали большое сходство. Хиппи были тесно связаны друг с другом, поскольку жили в тех же местах, пользовались теми же вещами и обладали теми же знаниями, что и все остальные советские люди, включая тех, кто представлял власть. Просто эти связи не всегда были очевидными, это могли быть крепко затянутые узлы или еле видимые нити, а иногда это было просто одно целое.
Хиппи отвергли «маленькую сделку», которую режим Брежнева предложил советскому обществу13. Хотя при этом они заключали много разных мелких сделок с реальностью позднего социализма: некоторые из них были довольно неприятными, как неквалифицированные работы, на которые они устраивались, чтобы избежать обвинения в тунеядстве; некоторые были своего рода ухищрениями, использующими экономические лазейки плохо функционировавшей экономики; а некоторые – бессознательными, например построение философии, основанной на существовании господствующего «дьявольского» другого. В то же время хиппи капризничали и изводили всех вокруг, как это делают непослушные дети, вызывая раздраженные упреки и наказания со стороны взрослых, но при этом добиваясь от них неохотных уступок. Хиппи так и не стали мейнстримом. Но со временем советский мейнстрим стал немного ближе к хиппи.
Итак, эта книга о советских хиппи. Но еще она о позднем Советском Союзе, о том, как он работал, о его повседневной реальности и сбивающих с толку противоречиях. Это история про ангелов. Но, как и все истории про ангелов, она скорее рассказывает больше про людей, чем про ангелов: как про тех, кто хотел ими стать, так и про тех, кто в них совсем не верил. В ней говорится о тех, кто сознательно стал аутсайдером и пытался построить свой собственный – «другой» – мир и кто действительно временами казался не от мира сего. И, глядя на истории этих людей, можно увидеть, как стремление «стать другим», «выпасть», «находиться вне» не отделяло этих людей от остального общества, а образовывало все больше сетей и связей, создавая не разрозненную, а целостную картину. Вместо того чтобы находиться за пределами общества позднего социализма, советские хиппи придумывали и формировали его своеобразную основу. В общем и целом эта книга рассказывает важную историю о том, как поздний социализм стал тем, чем он стал: высокоразвитой структурой, на чьей основе и на чьих недостатках парадоксальным образом жила и процветала богатая социальная флора. Очевидное противоречие между этой флорой и средой ее обитания скрывало глубокую зависимость от окружающей среды и симбиоз с ней. Советские дети цветов были небольшой, но очень красочной частью этого сада.
Когда название «Цветы, пробившие асфальт» впервые пришло мне в голову, я думала о силе природы, способной проломить асфальт, – точно так же как чудаковатые хиппи выживали и добивались своего в атмосфере советского конформизма. И как советские хиппи без задней мысли назвали себя Системой – словом, которое о многом говорило, я тоже оказалась более прозорливой, чем первоначально предполагала. Цветы, символизирующие хипповскую хрупкость и естественную красоту, действительно могут пробиваться сквозь асфальт. Они тоже будут искать в нем трещины и слабые места. Цветок использует недостатки асфальта, но для того, чтобы выжить, он должен адаптироваться к окружающей среде. Не каждый цветок может расти среди холодных и давящих камней, но те, которые растут, относятся к более выносливым сортам. Их не так много в любом месте, и они зачастую немного чахлые и взъерошенные. Но в итоге то, что сливалось бы с полем других цветов, обретает свою одинокую красоту на фоне брутальной серой массы. Красота заключается в сосуществовании этих контрастных текстур. Настроение картины передают и цветы, и асфальт.
ПРЕДЫСТОРИЯ
У этого проекта было много жизней – и, возможно, еще сколько-то осталось. Они неизбежно переплетаются с моей собственной жизнью историка; этот момент часто скрыт в наших исторических работах и признается неохотно. Антропологи осознали это намного раньше, поскольку полевые исследования дают им возможность вести включенное наблюдение, испытывать эмоции и аффекты. Я еще вернусь к данной теме чуть позже в этой главе. Так или иначе, судьба этого проекта также тесно связана с политическими и экономическими процессами. Он стартовал в самом начале экономического кризиса 2008 года, был свидетелем аннексии Крыма и начала конфронтации с Украиной, а также московских протестов 2011 и 2017 годов. Все эти события повлияли на то, как проект развивался, как на него реагировали участники и какие вопросы я и мои коллеги задавали во время интервью. Проект также прошел через несколько стадий академического развития. Я кратко рассмотрю его траекторию – хотя бы для того, чтобы показать те направления, в которых он мог бы развиваться, но не стал.
Он начался как советская часть проекта сравнительных исследований протестных культур 1968 года под руководством Роберта Гилдеа (Robert Gildea) в Оксфордском университете. Нас особенно интересовали сети связей и транснационализм. Поэтому в своих первых интервью я уделяла внимание глобальной природе феномена хиппи. Это послужило основой проекта Dropping Out of Socialism Совета по исследованиям в области искусства и гуманитарных наук Великобритании. К этому моменту я уже находилась под большим впечатлением от того, как хиппи успешно создавали альтернативную среду, которая позволяла ее сторонникам все меньше сталкиваться с советской реальностью. Моя поездка в Будапешт и возможность пользоваться Архивами Открытого общества (Open Society Archives) в Центральноевропейском университете и их коллекцией самиздата повернули меня к теме ограниченных возможностей развития несоветскости, а богатые личные архивы хиппи, которые я обнаружила, усилили мой интерес к субъектности и к вопросу о том, как советский андеграунд был закодирован и перекодирован своими участниками. Позже этот проект стал основой для другого проекта AHRC, посвященного изучению и анализу архива Азазелло – того самого Азазелло, который казался ангелом юному хиппи Киссу и который оставил после себя тысячи рисунков, поэм и разного рода заметок, содержащихся в нескольких десятках записных книжек. Немаловажная роль наркотиков в самовосприятии и творчестве как минимум некоторой части хипповского сообщества привела меня к изучению вопроса о том, как можно – или, лучше сказать, можно ли вообще – поместить состояния наркотического кайфа в исторический контекст. Прежде чем этот проект окончательно превратился в монографию, он побывал фильмом («Советские хиппи», режиссер Терье Тоомисту, 2017, Эстония – Германия – Финляндия) и выставкой в Музее Венде (Wende Museum) в Лос-Анджелесе (Socialist Flower Power, Музей Венде, май – август 2018). В основу проекта легли 135 интервью с бывшими советскими хиппи, которые я брала в течение десяти лет в разных местах земного шара, от Челябинска до Голанских высот, от Ростова-на-Дону до западного побережья США, с акцентом на Москве, где проживало самое большое и самое активное сообщество хиппи. Эти интервью дополнились архивными документами из центральных и местных государственных и партийных архивов и статьями, опубликованными в то время в советской и западной прессе. Существует небольшое количество мемуаров хиппи – размещенных онлайн, опубликованных в бумажном виде или хранящихся в виде рукописей в чьих-то личных архивах, а также постоянно растущее число постов в социальных сетях, содержащих воспоминания, достоинства и недостатки которых будут обсуждаться позже. Мне повезло найти со временем даже тех хиппи, которые, как поначалу казалось, исчезли навсегда, в том числе Сашу Пеннанена, одного из самых влиятельных людей своего времени, мужа еще более известной Светы Марковой, которая, к сожалению, умерла в 2008 году, за несколько лет до того, как я связалась с Сашей. Он живет теперь в социальной квартире в доме в Сан-Франциско, не доверяет интернету, но держит в своей записной книжке большое количество телефонных номеров. Саша стал бесценным источником информации о том, что происходило еще до того, как советские хиппи обрели нынешнюю коллективную память. Еще одним большим открытием стал архив Юры Солнца – Юрия Буракова, одного из первых советских хиппи, который оказался плодовитым автором, описывающим свою жизнь и мысли в автобиографической прозе от третьего лица. Так, совершенно неожиданно, я получила в свое распоряжение голос свидетеля, находившегося в самой гуще событий того времени. Другие поиски, например богатой коллекции предметов, принадлежавших Офелии (Свете Барабаш), не принесли никаких результатов. Некоторые политические события также сыграли мне на руку. Например, архив КГБ Украины, полностью открытый в 2014 году, предоставил интересную возможность посмотреть на хиппи «с другой стороны» (балтийские же архивы КГБ, которые были открыты намного раньше, содержат разочаровывающе мало следов хиппи). Это было весьма полезно, учитывая огромные масштабы движения хиппи в первые годы, но это также продемонстрировало, что доверять документам КГБ можно не больше, чем моим респондентам14.
Работа с документами «всеведущих» органов государственной безопасности подтолкнула меня переосмыслить мою исходную базу интервью. Особенно я задавалась вопросом (который в полной мере проявился именно тогда, когда я работала с архивами КГБ), почему одним конкретным вещам в отчетах уделялось много внимания, тогда как другие там полностью отсутствовали. Как это ни парадоксально, но именно в процессе чтения между строк документов КГБ я стала смотреть на собранные мною интервью как на основу текста, а не как на отдельные свидетельства. Таким образом, я научилась видеть в своих респондентах-хиппи общественную силу, у которой были свои поставленные на карту коллективные интересы (как и КГБ, у которого тоже были собственные интересы), а не просто маргиналов (не забывая, впрочем, о том, что они ими и являлись). Я увидела в хиппи действующих лиц системы, которая была настроена против них, но в которой они при этом не были полностью беспомощны. Это не означало, что я отказалась от своих давних попыток воссоздать субъектность советских хиппи. Напротив, многочисленные способы, которыми они формировали свой советский габитус, и то, что они думали о нем, сделали их отличной призмой для изучения совокупности практик и верований, создавших многообразный ландшафт позднего социализма. Проще говоря, рассмотрение субъективного опыта и умозаключений хиппи со всей очевидностью показывает, что поздний социализм управлялся многими порой конкурирующими между собой сводами норм, что делало его, по сути, плюралистическим обществом, несмотря на все его несомненно застойные черты и отсутствие открытого публичного дискурса.
За время десятилетней прогулки по дорогам хиппи я также несколько раз меняла объяснительные схемы, многие из которых нашли свое место в отдельных главах книги. В специальном выпуске журнала Contemporary European History я обратила внимание на важную роль эмоций для понимания хиппи15. Благодаря семинару в Колумбийском университете, посвященному неантропоцентричным перспективам в истории Восточной Европы, я стала интересоваться хипповскими вещами, что отразилось в главе про материальность16. Наш семинар «Выпадая из социализма» в Бристольском университете вдохновил меня поразмыслить о любопытном треугольнике «хиппи – свобода – безумие», что привело к написанию статьи для журнала Contemporary European History, переработанная и расширенная версия которой превратилась потом в главу «Безумие»17. Прочитав написанную Эмманюэлем Каррером (Emmanuel Carrère) биографию Эдуарда Лимонова, который вращался в близких к хиппи кругах задолго до того, как стал лидером национал-большевиков, я попробовала сочетать стиль описываемого субъекта с собственным авторским стилем, как это делает Каррер18. Эта попытка уловить настроение не только описательно, но и стилистически воплотилась лишь в немногих конкретных отрывках и отчетливо видна только в ироничном (стёбном) заголовке первой части этой книги: «Краткий курс истории движения хиппи». Я пыталась отдать должное хипповскому стилю, чтобы лучше показать субъективные миры хиппи, даже если иногда я с ними и не соглашалась как автор и историк.
Таким образом, оказалось, что в истории советских хиппи фоном присутствуют две темы: длительное увлечение парадоксами позднего социализма и возвращение роли автора-историка в текст книги. В течение последних десяти лет я отчетливо понимала, что «творю историю», записывая голоса и факты, которые стремительно исчезали (около пятой части моих респондентов умерли с тех пор, как я взяла у них интервью, и на каждый сохраненный архив приходится десяток пропавших), и являясь активным участником этого процесса – участником со своими собственными историей, биографией и субъективностью. Моим учителем в этом стала Кейт Браун (Kate Brown), которая долгое время выступала за введение авторского «я» в исторический нарратив19. Совсем недавно в антропологии появился «поворот к аффекту». Он связан с передачей эмоционального и чувственного аффекта в академических работах и призывает к «исследованию аффекта, которое предполагает систематическое изучение взаимоотношений антропологов с собеседниками (контрагентами), изучаемыми ими практиками, а также с предметами и местами, с которыми они сталкиваются»20. Разновидностью этой темы является то, что Фран Марковиц (Fran Markowitz) называет «полноценной этнографией», которую она определяет как двойное внимание к «воплощенным предметам исследования и группам исследователей, а также значениям, которые они выражают и передают»21. Вопрос, что делать с авторским «я», беспокоил меня во время моего пути по хипповским следам еще до того, как я узнала об академических исследованиях этой темы. Поскольку мои исследования действительно были сродни антропологическим/этнографическим – я выходила в поле, опрашивала людей у них дома и на работе, посещала вместе с ними фестивали, пила кофе и вдыхала дым от их сигарет, – здесь всегда присутствовал определенный уровень наблюдения, который было трудно учесть в историческом анализе: жизнь, которую я видела сейчас и которая влияла на мою интерпретацию.
В течение долгого времени я думала, что хочу написать другую книгу: такую, в центре которой будет мое путешествие в поисках хиппи и которая будет рассказывать их историю по мере того, как я продвигаюсь вперед. Мне казалось, что преимущество такой работы заключается в том, что она давала бы более полную картину двух переплетающихся историй: моей собственной и истории тех людей, которых я изучала. Если бы я серьезно отнеслась к субъективному подходу как к методологии, тогда бы исследование состояло из двух частей и каждая часть должна была бы раскрываться в равной степени. Но в конечном счете эта книга так и осталась ненаписанной. Небольшой сохранившийся фрагмент ее ранней рукописи под названием «На краю империи» появился в третьем выпуске Львовского альманаха хиппи. В статье отслеживалась история хиппи Львова и их семейное прошлое сопоставлялось с историей изгнания моей собственной семьи в 1945 году из Бреслау – города, который, в свою очередь, был потом заселен поляками, выселенными из Львова22.
И хотя мои приключения по следам хиппи остались за страницами этой книги, они тем не менее прячутся здесь между строк. Вот история о том, как в дождливый летний день я заблудилась в поисках поселка Волошово Ленинградской области, где проживал хиппи Гена Зайцев, и на совершенно пустынной дороге меня подобрал внедорожник с четырьмя здоровенными мужчинами, один из которых оказался местным губернатором. Когда я думаю о наших с Геной беседах, я всегда вспоминаю, как мы с ним собирали и готовили грибы. Так же я вспоминаю вкус свежеиспеченного черного хлеба с тмином, которым меня угостили после интервью с бывшим обитателем коммуны в Ленинграде. Я навещала его и его жену в деревне еврейских поселенцев с видом на Иудейскую пустыню в самом западном углу палестинского Западного берега реки Иордан, связь которого с материковой частью Израиля осуществлялась один раз в день посредством пуленепробиваемого автобуса до Иерусалима. Я хорошо помню свой восторг, когда я впервые увидела рукопись Юры Буракова – после многолетних гаданий о том, кем он вообще был, этот легендарный Солнце. Брат Юры, Владимир, все эти годы бережно хранивший его архив, показал мне его. Было так волнительно идти с ним к могиле Солнца, размышляя о том, что ничего в надгробном камне, кроме фотографии Юры с длинными волосами, не говорит о том невероятном влиянии на советскую молодежную культуру, которое он оказал. И где-то на заднем плане моего текста расположилось множество домов, квартир и кафе, в которых я встречалась со своими героями. Эти места много говорили про их обитателей, как и их одежда, их финансовая ситуация и их политические взгляды, которыми они часто делились со мной во время и после интервью. Иногда мне было неловко наблюдать слезы в глазах некоторых моих собеседников, вспоминавших свое прошлое или рассказывавших про свое невеселое настоящее, как, например, одна семейная пара (обоих уже нет в живых), жившая в полуразрушенной квартире. Они цитировали мне стихи, показывали свои рисунки – и выпили невероятное количество водки прямо во время нашего интервью. Я бежала с места событий после того, как уровень их взаимной агрессии вырос до такой степени, что по комнате стали летать разные предметы и один из них угодил в меня. И конечно, моя неакадемическая жизнь тесно переплеталась с моей работой в течение этих последних десяти лет. В начале проекта я была беременна моей первой дочерью. Она сопровождала меня в моих поездках в Россию, Израиль, Литву, Латвию и Эстонию во время первого раунда моих интервью. Сейчас ей одиннадцать лет, а ее младшей сестре – пять. Когда моей второй дочери было полтора года, она отправилась со мной на большой фестиваль хиппи в Царицыно. Это было в 2014 году, когда конфликт России с Украиной изменил не только атмосферу внутри старого хипповского сообщества, но и обстановку, в которой проходили мои интервью. Присутствие маленького ребенка во время разговоров давало возможность откровенничать на такие темы, которые до этого были закрыты наглухо, а необходимость ехать в не самые спокойные места, будучи матерью маленьких детей, продемонстрировала мне дилеммы, с которыми сталкивались не только женщины-хиппи, но и просто любые матери, жизнь которых так или иначе выходила за рамки домашнего быта.