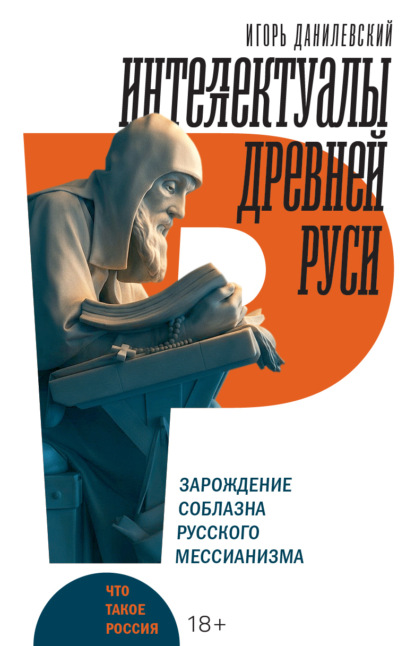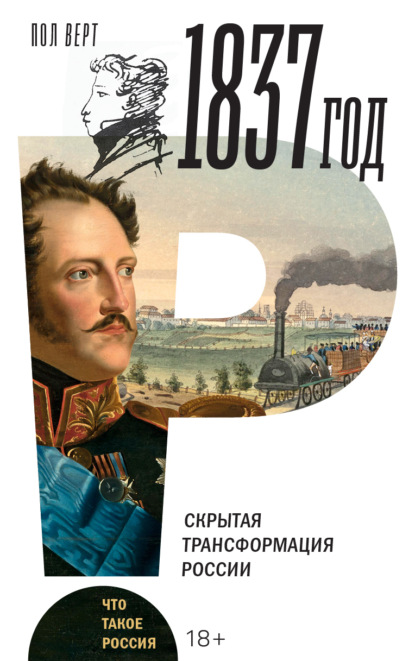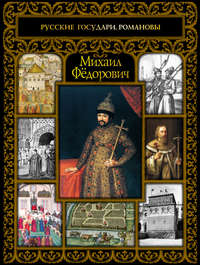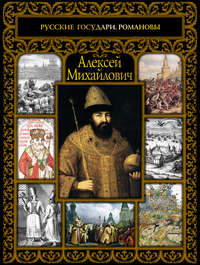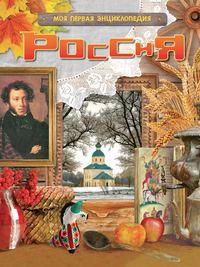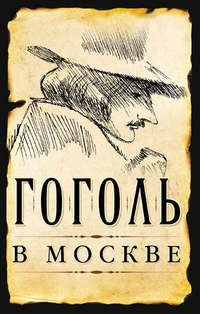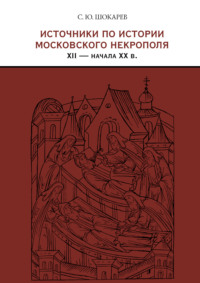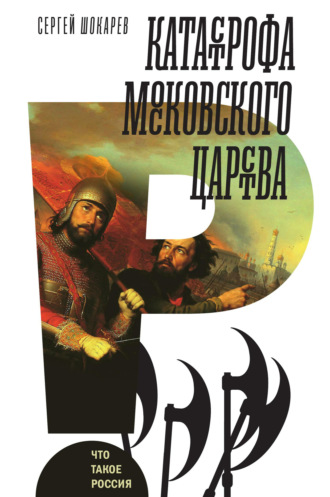
Полная версия
Катастрофа Московского царства
Средняя и Нижняя Волга («понизовые города») были населены разными народами, ранее подвластными правителям Казанского и Астраханского ханств. Наименование «царств» сохранялось за ними в титулатуре российских государей и документах. Управляло этими территориями специальное ведомство – Приказ Казанского дворца. На месте запустевших ордынских городов на Волге появились русские крепости Самара, Саратов, Лаишев, Царицын и другие. Завоеванные в середине XVI века казанские татары и черемисы (мари) полвека спустя продолжали сопротивляться русской власти и сопутствовавшим ей колонизации и христианизации. Всю вторую половину XVI века здесь регулярно поднимались восстания (1552–1557, 1560, 1568, 1571–1574, 1582–1586, 1591–1592). Тлеющий огонь национального мятежа вновь разгорелся в Смутное время, что стало важным фактором общероссийского конфликта.
В низовьях Волги, несмотря на претензии крымцев и соседство с ногайцами, России удалось удержать за собой Астрахань. Если Архангельск был окном в Европу, то Астрахань – в Азию. Присоединение Астрахани открыло России путь к богатейшим рынкам и выгоды транзитной торговли между Востоком и Западом.
К востоку от неспокойного Казанского края, «через Камень» (за Уралом), простирались новые российские владения – Сибирь. Прологом к ним являлась обширная вотчина промышленников Строгановых в Пермской земле – на реках Каме и Чусовой. Пользуясь покровительством Ивана Грозного, Строгановы создали здесь своеобразное государство на границах России и собрали колоссальные богатства за счет солеварения, добычи пушнины и других промыслов. Их война с сибирским ханом Кучумом привела к завоеванию Сибири Ермаком и началу продвижения русских в Сибирь. К началу XVII века почти вся Западная Сибирь вошла в состав Московского царства, были основаны остроги[4] и городки Тюменский, Тобольский, Березовский, Пелымский и другие. В Сибири собирали ясак (дань пушниной), и «мягкое золото» в XVI–XVII веках являлось важнейшей статьей государственного дохода.
В освоении Сибири и дальнейшем продвижении на восток сыграли большую роль казаки – особая этносоциальная группа, занимавшаяся преимущественно военным делом. Казачьи поселения охватывали юг России, уходили к окраинам, которые так и назывались «украйнами», «польскими» и «крымскими». Еще в XV веке появились казаки на Дону и распространились от верховий до среднего течения. Казаки селились в Приазовье, на Средней Волге, на Яике, на Тереке, а крупнейшее, наряду с донским, запорожское казачество обреталось на Днепре. Столицей запорожского казачества была крепость Сечь, неоднократно менявшая свое местоположение. В русских источниках XVII века запорожцы именуются черкасами. Казачьи поселения представляли собой военные республики, избиравшие своих предводителей, но тянувшиеся к покровительству и службе у монархов России и Речи Посполитой.
«Казак» – изначально тюркское слово, означавшее «свободный человек». Между татарскими ордами и русскими селениями возникли станицы таких свободных людей, воевавших на две стороны, грабивших торговые караваны и посольства. Они пополнялись выходцами из татарских ханств, пришлыми и бродячими людьми из России, Великого княжества Литовского, Польши. Постепенно часть казачества поступила на царскую службу, осев в «украинных» городах. Казаками стали называть служилых «по прибору», поступавших на военную службу также в центре и на западной границе. Служилые казаки получали поместья, дворы и жалованье в пограничных крепостях. Таковых было достаточно много, в южных уездах они составляли значительную по численности категорию служилых людей.
Вольные казаки обретались на юго-восточных, южных и юго-западных границах Московского государства (донские, волжские, терские, яицкие, запорожские). Они существовали за счет войны и состояли в непростых отношениях с царским правительством, которое было недовольно казачьими грабежами торговых караванов и посольств, но поощряло нападения казаков на Крым. Придерживаясь православия, казаки провозглашали союз с христианскими государями против татар и турок. Казачество пополнялось за счет крестьян и холопов, выходивших из южных и центральных уездов (в том числе бежавших). В советское время масштабы этого явления и его протестный характер были сильно преувеличены. Документы свидетельствуют, что среди служилых казаков на южной границе было немало бывших крестьян, закрывших обязательства перед помещиками.
До начала XVI века южной границей России была Ока, защищенная береговой чертой, к которой ежегодно выходили войска – сторожить центральные уезды от татар. Затем постепенно линия обороны (засечная черта) сдвинулась на юг, появились южные крепости Тула, Дедилов, Епифань, Донков, Сапожок, Ряжск, Новосиль, Елец, Курск, Орел, Ливны, Воронеж, Валуйки, а в 1599 году окольничий Б. Я. Бельский был послан строить Царев-Борисов у впадения реки Бахтин в Оскол, более чем в 660 верстах к югу от Москвы. По мере продвижения на линии крепостей на юг степные территории за Окой заселялись служилыми людьми и крестьянством. Какую-то часть этого населения составляли беглые крестьяне и холопы. Главную роль в освоении этой территории играло правительство, а расселение шло медленно и неравномерно из‐за постоянной угрозы татарских набегов. В «украинных» городах ощущался недобор служилых людей, и местные воеводы были вынуждены «верстать» пашенных крестьян в казаков и детей боярских, что вызывало проблемы, о которых шла речь ранее. К началу Смуты здесь сложился контингент служилых людей, более демократичный по составу, чем дети боярские Московского края, замосковных и северных и северо-западных городов.
К западу от «украинной» линии лежала Северская земля – территория по реке Десне и левобережью среднего Днепра. Эти территории перешли в состав Московского государства из Великого княжества Литовского в начале XVI века. Крупнейшие города Северщины – Чернигов, Путивль, Новгород-Северский, Стародуб, Трубчевск, Брянск, Почеп – были включены в систему обороны, сюда назначались воеводы и стрелецкие головы. В составе Северской земли находилась обширная дворцовая Комарицкая волость, главной крепостью которой были Кромы. Эти земли постоянно подвергались нападениям татар и литовцев, требовали не меньшего внимания со стороны правительства, чем южная «украйна». Здесь сформировалась особая этническая группа, близкая к казакам, – севрюки, потомки древнерусского населения.
Замыкает обзор территорий Смоленская земля, центры которой именовались «городами от Литовской украйны» (Смоленск, Красный, Вязьма, Дорогобуж, Белая, Великие Луки). Составлявшая некогда независимое княжество, эта территория в начале XV века была завоевана великим князем литовским Витовтом, а в 1513 году ее отвоевал у Литвы Василий III. С этого времени Смоленск стал крупнейшей пограничной крепостью Московского государства на западе. Из-за частых войн с Литвой этому направлению придавалось важнейшее значение.
В 1595–1602 годах под руководством зодчего Федора Коня была построена монументальная Смоленская крепость. Борис Годунов лично в 1596 году выезжал наблюдать за ходом работ. Колоссальное по объему строительство вызвало мобилизацию огромного числа мастеров и рабочих. На монастыри была возложена обязанность поставить «посошных людей» (рабочую силу) и подводы для перевозки камня. «Камень возили изо всех городов, а камень имали, приезжая из городов в Старице да в Рузе, а известь жгли в Белском уезде у Пречистые в Верховье». После завершения строительства каменно-кирпичной крепости общая протяженность стен составила 6,5 км, башен насчитывалось 38; толщина стен от 5,2 до 6 м.
«Латухинская Степенная книга» 1678 года передает разговор, якобы состоявшийся при дворе царя Федора Ивановича. Годунов, расхваливая крепость, назвал ее «ожерельем» России. На это князь Ф. М. Трубецкой будто бы возразил: «Как в том ожерелье заведутся вши, и их будет и не выжить». Резкий переход от высокой патетики к грубой иронии связан с болезненностью темы: Смоленскую крепость, захваченную поляками в Смуту, удалось отвоевать с огромным трудом только в середине XVII века.
География и демография
Оценить, сколько людей проживало в Московском государстве в конце XVI века, крайне трудно из‐за того, что демографической статистики в то время не существовало. Первый более-менее точный и подробный учет населения начали вести при Петре I, однако и тогда учитывали только налогоплательщиков-мужчин, а не всех жителей страны. Для того чтобы получить представление об общей численности, можно прибегнуть к экспертным оценкам. Согласно вычислениям специалиста по исторической демографии Ярослава Евгеньевича Водарского, население России в конце XVI века составляло 7 млн человек обоего пола. Подавляющее большинство жителей были крестьянами. Установить соотношение между разными сословными категориями возможно только по аналогии с более поздним периодом. По Я. Е. Водарскому, в 1678 году крестьян насчитывалось 91,4 %, податных городских жителей 4,7 %, феодалов, духовенства и чиновников 3,8 %. В 1719 году эти цифры были следующими: 87,2 %, 4 % и 8,7 %. Для рубежа XVI–XVII веков основные объемы цифр, скорее всего, сопоставимы с 1678 годом, но численность представителей привилегированных сословий, вероятно, была меньше.
Наиболее населенной частью страны было Замосковье, а крупнейшим городом – Москва: в конце XVI века в столице проживало около 100 тысяч человек.
Город был разделен на несколько районов линиями крепостных стен и рек. Священным центром Москвы был Кремль – историческое ядро столицы, кирпичная крепость, возведенная итальянскими мастерами при Иване III. Здесь находились главные соборы, наполненные святынями и являвшиеся местом упокоения святопочивших московских святителей и благоверных правителей прошлого. Кремль был резиденцией царя и патриарха, местом обитания бояр, средоточием администрации (здесь находилось общее здание всех центральных учреждений – приказов). Крепость была построена в середине XII века на мысу при слиянии рек Москвы и Неглинной. После завершения строительства каменного Кремля при Иване III с восточной стороны прорыли Алевизов ров, соединявший Неглинную и Москву. В XVI–XVII веках он то наполнялся водой, то высыхал. Некоторое время при Иване Грозном и его преемниках в этом рву располагался своеобразный московский зверинец – здесь держали львов.
С восточной стороны к Кремлю примыкал торгово-ремесленный посад, а под стенами расположилась крупнейшая торговая площадь, носившая в XV–XVI веках название Торг, во второй половине XVI – первой половине XVII века – Пожар, а со второй половины XVII века – Красная площадь. В 1533–1538 годах посад был защищен линией крепостных стен, носивших название Китай-город. От них получил это наименование и весь район посада.
Вокруг Кремля и Китай-города полукольцом расположились укрепления Белого города (1586–1591)[5], названные, скорее всего, по цвету стен. Строительство Белого города, который в источниках именуется также «Царевым Белым городом», вел зодчий Федор Конь. Скорее всего, общее руководство этими работами, как и другими масштабными строительными проектами, осуществлял Борис Годунов.
За пределами Белого города оказались ремесленные окраины и территория за рекой Москвой – Замоскворечье. После набега крымского хана Казы-Гирея в 1591 году были построены стены, замкнувшие город кольцом деревянно-земляных укреплений (1591–1592). По характеру постройки они именовались Земляным, или Деревянным, городом, а за скорость возведения – Скородомом.
Иерархия московских градов носила ярко выраженный социальный характер. От Кремля, где жили царь, патриарх и бояре, до окраин Земляного города, где обитали простые горожане («тяглецы»), мелкие ремесленники, ямщики, стрельцы, огородники, слобожане, все более и более росла численность жителей и, напротив, уменьшалось социальное значение каждого. Таким образом, Москва представляла собой своеобразную пирамиду, вершиной которой был Кремль, а подножиями – обширные «загородья» вокруг Земляного города. Кремль являлся аристократическим районом, в Китай-городе соседствовали дворяне, приказные люди, торговцы, ремесленники и духовенство, Белый город населяли те же сословия, а Земляной город – посадские люди, жившие в черных и белых слободах. Белых слобод в Москве было много. Большинство из них работали на государя и царский столовый обиход. Социальная иерархия выражалась и в пространственном отношении. По подсчетам историка Москвы П. В. Сытина, в конце XVI века Кремль занимал площадь 27,5 га, Китай-город – 63 га, Белый город – 451,5 га, Земляной город – 1344 га.
Установить количественное соотношение разных групп московского населения на рубеже XVI–XVII веков на основании имеющихся источников невозможно. Приходится прибегнуть к более поздним данным. Знаток старомосковского быта Сергей Константинович Богоявленский утверждал, что в конце XVII века население столицы составляло около 200 тысяч человек, из них в черных и ремесленных слободах 48 тысяч, 53 тысяч дворян, 27 тысяч духовенства, 28 тысяч иноземцев, в военных слободах – 44 тысячи. Для конца XVI века общая численность должна быть сокращена вдвое (и, скорее всего, должна сократиться численность иноземцев). Доля остальных сословий была приблизительно такой же, однако С. К. Богоявленский почему-то не учитывал в своих расчетах холопов. В итоге количественное соотношение разных сословных групп в Москве конца XVI века должно быть примерно такое: по одной четверти населения составляли дворяне, посадские люди и военные «по прибору» (стрельцы, воротники, пушкари), оставшуюся четверть – духовенство, холопы и иноземцы, жившие в особой слободе на Болвановке, а затем на Яузе.
Московский и соседние уезды (Московский край) были плотно населены. Здешние земли занимали в основном вотчины и поместья московских чинов и церковных феодалов. Дворцовые и черносошные волости были в меньшинстве. Здесь располагались знаменитые монастыри – Троице-Сергиев, Иосифо-Волоцкий, Симонов, Спасо-Андроников, Николо-Угрешский, Саввино-Сторожевский и другие, – являвшиеся не только религиозными и административными центрами округи, но также узлами расселения: вокруг них образовывались торги и слободы.
Крупнейшими городами Подмосковья были Коломна (783 двора), Серпухов (в 1552 году город с окружающими слободами – 623 двора), Дмитров (около 300 дворов в 1624 году), Зарайск (291 двор, не считая жителей кремля), Можайск (по писцовым книгам 1596–1598 годов – 205 посадских дворов). Сравнимы с ними по размерам были Волок Ламский и Звенигород, вероятно, чуть меньше – Верея, Руза (около 200 человек посадских), Царев-Борисов городок.
В переписных и писцовых книгах XV–XVII веков, учитывавших налогоплательщиков горожан и сельских жителей, подсчет велся по числу дворов, а не жителей. В науке численность обитателей посадского двора в XVI–XVII веках является предметом дискуссий. По расчетам Я. Е. Водарского, перепись 1582–1585 годов дает среднее число мужчин на один посадский двор 2,52. Представляя соотношение между мужчинами и женщинами как 1:1, получим примерное число жителей одного городского двора – 5 человек.
Великий Новгород в середине XVI века являлся вторым по величине городом после Москвы. В нем было почти 5,5 тысячи дворов, то есть проживали более 26 тысяч жителей. В результате опричного разорения население города катастрофически сократилось, однако точные данные на конец XVI века получить сложно из‐за неполноты источников. Третье место по численности жителей, вероятно, занимал Смоленск. Его население перед Смутой составляло 20–25 тысяч жителей. В Казани проживали, по разным оценкам, от 10 до 15 тысяч человек. Псков во время осады его войсками Стефана Батория (1581) насчитывал 12 тысяч горожан и 500 стрельцов. В Нижнем Новгороде в 1621 году было около 2000 дворов, то есть не менее 10 тысяч населения. Очевидно, что до Смуты город был если не больше, то явно не меньше.
Среди замосковных городов самыми многолюдными были Тверь (более 1000 черных дворов), Ярославль (около 900 черных дворов), за ним следовали Галич (более 600 дворов), Кострома (после Смуты, в 1614 году – 312 дворов; в 1628–1630 годах уже 1633 двора), Владимир (400 дворов в 1678 году), Суздаль (414 черных дворов), Переяславль (в середине XVII века – 4,5 тысячи человек), Белоозеро (260 черных дворов). Большими городами являлись Вологда (673 двора) и Устюг Великий (725 дворов по писцовым книгам 1623–1624 годов).
700 и более дворов насчитывали Калуга, Муром, Путивль. Не менее 2 тысяч жителей проживали в Туле. В Астрахани находился стрелецкий гарнизон численностью 500 человек, не меньше было и посадских людей; следовательно – с учетом женского населения, – около 2 тысяч.
В центре далекой Вятской земли, Хлынове, в 1590 году было 375 дворов. Крупнейший город Закамья Чердынь в 1579 году насчитывал 290 дворов. В городах Сибири преобладало служилое население, однако и его было сравнительно немного: в начале XVII века около тысячи человек. Часть из них приняла участие в событиях Смутного времени.
Конец династии Рюриковичей
Наследие Ивана Грозного
Царь Иван Васильевич скончался 18 марта 1584 года. В XVIII веке за этим государем укрепилось прозвание Грозный (из народных песен о «грозном царе») и порядковый номер IV. Яркая личность царя и бурные события его правления сделали Ивана Грозного самым популярным русским средневековым правителем в наши дни. Однако участники и очевидцы Смутного времени оценивали царя Ивана критически, поминая ему опричный террор и жестокость по отношению к подданным.
«Пискаревский летописец» после известия о смерти Ивана Грозного поместил легендарный рассказ о пророчестве казанской царицы, предсказавшей рождение царственного младенца с двумя зубами: «Одними де ему съести нас, а другими вас».
Концепцию «двух зубов» («двух Иванов») развивают и другие писатели XVII века, например автор «Повести книги сея от прежних лет» (возможно, это был князь И. М. Катырев-Ростовский или князь С. И. Шаховской):
И достиже совершенна мужеска возрасту, и нача владетелно держати скифетро Российскаго государства, и рати воздвиг, и многие окрестные государства великие под свою державу, высокую руку, поручил: царство Казанское и иные многие бусурманские государства <…> И за умножение грех всево православного крестьянства супротивен обретеся и наполнися гнева и ярости, наченше подовластных своих сущих раб зле и немилостиво гонити и кровь их пролияти.
Трансформация от царя-победителя к тирану-мучителю отразилась и на физическом облике самого царя. По свидетельству антрополога М. М. Герасимова, изучавшего скелет Ивана Грозного, очень сильный и хорошо тренированный человек к концу жизни превратился в развалину: сильно растолстел, утратил подвижность и постоянно мучился болями из‐за многочисленных наростов на позвонках и других костях (остеофитов), появившихся из‐за нарушения обмена веществ. В сходном положении царь оставил и государство. Историки оценивают результаты правления Ивана Грозного как катастрофу.
Опричное разделение, террор и разорение территорий, многолетняя война за Ливонию, вызвавшая увеличение налогов и сборов, неурожайные годы и эпидемии – эти факторы, действовавшие в 1560–1580‐е годы, породили несколько кризисов, доставшихся в наследие преемнику Ивана Грозного.
Первым из проблемных узлов, собственноручно завязанных Иваном Грозным, стала угроза прекращения династии. От семи браков у царя было восемь детей, из которых пять умерли в младенчестве и детстве. В конце жизни Грозного наследником являлся сын от первого брака с Анастасией Романовной царевич Иван Иванович (1554–1581). Сведения о его личности приходится выискивать по крупицам и отделять мифологию от реальности. Скорее всего, царевич был похож на отца энергией и, возможно, жестокостью. Известно о его приверженности к книжной культуре. Дряхлевший царь смотрел на наследника с завистью и подозрением, стремился подчинить его своей воле. Отношения между отцом и сыном были напряженными. Один из конфликтов закончился трагедией. В ноябре 1581 года царь в гневе избил беременную жену царевича (на другой день она родила мертвого младенца) и нанес посохом смертельную рану Ивану Ивановичу. Через несколько дней тот скончался.
Младший родной брат Ивана Федор родился в 1557 году. Современники-иностранцы оставили критические отзывы о его умственных способностях и физическом здоровье. Более благосклонны к Федору Ивановичу русские авторы, подчеркивавшие «святолепное житие» государя и отмечавшие «тишину» и «благоденство» его царствования. Скорее всего, молитвенник Федор, в отличие от отца, не мог или не хотел деятельно участвовать в делах управления. Был и еще один аспект: царевич Федор женился в 1575 году на Ирине Федоровне Годуновой, но детей в этом браке до смерти Ивана Грозного так и не появилось. Продолжение рода по этой линии было под вопросом.
В 1582 году родился сын Ивана Грозного от его последней жены Марии Федоровны Нагой – царевич Дмитрий. Впоследствии оказалось, что он болен эпилепсией, однако к моменту смерти царя признаки болезни могли еще не проявиться.
Таким образом, царствующий дом сузился до двух сыновей Ивана Грозного, каждый из которых не блистал здоровьем. Современники предсказывали закат династии. Англичанин Д. Флетчер, побывавший в России в 1588 году, писал, что царский род в России, вероятнее всего, скоро прервется. Но пока это были лишь смутные предположения.
Более заметные проблемы вызревали внутри правящего сословия. После отмены опричнины в 1572 году в составе Думы и Государева двора был выделен «особый двор» («дворовые»). Часть «дворовых» ранее входила в опричнину, другие были возвышены и приближены заново. В 1584 году в Думу входили 13 земских чинов (6 бояр, 5 окольничих и 2 дьяка) и 19 дворовых (5 бояр, 2 окольничих, 10 думных дворян и 2 думных дьяков). Земские представляли старинные роды, давно и прочно укрепившиеся у трона (князья Иван Федорович и Федор Иванович Мстиславские, Никита Романович Юрьев (брат царицы Анастасии), Богдан Юрьевич Сабуров, князь Василий Юрьевич Голицын и другие). В числе «дворовых» оказались аристократы-князья Федор Михайлович Трубецкой, Иван Петрович Шуйский и Василий Федорович Скопин-Шуйский, однако большинство принадлежали опричным любимцам царя Ивана. Это были Дмитрий Иванович, Борис Федорович и Степан Васильевич Годуновы, Федор и Афанасий Федоровичи Нагие, Богдан Яковлевич Бельский (оружничий), Роман Васильевич Алферьев (печатник), Василий Григорьевич Зюзин, Деменша Иванович Черемисинов, Роман Михайлович Пивов, Михаил Андреевич Безнин и другие. Между двумя «партиями» распределялись и носители дворцовых должностей. К земским принадлежали дворецкий князь Федор Иванович Хворостинин, казначей Петр Иванович Головин, вероятно, ловчий Д. А. Замыцкий; к «дворовым» – кравчий князь Дмитрий Иванович Шуйский, постельничий Истома Осипович Безобразов, стряпчий с ключом Семен Владимирович Безобразов, ясельничий Елизарий Шемякин Благой. Дьяки разделялись следующим образом: влиятельные бюрократы Андрей и Василий Яковлевичи Щелкаловы входили в земскую часть Думы, а Андрей Васильевич Шерефединов, и, вероятно, Савва Фролов – в дворовую.
Земские бояре, натерпевшиеся страху в годы опричнины и после нее (например, в 1575 году на двор князя Мстиславского метали головы казненных на Соборной площади в Кремле), естественно, не питали теплых чувств к бывшим опричникам. А те, в свою очередь, понимая слабость своих местнических позиций, готовились защищаться.
Опричная рознь не ограничивалась старыми счетами внутри правящего сословия. Страшный опыт братоубийства, преподанный Иваном Грозным своим подданным, оказал разлагающее влияние на общество. Великий историк Сергей Михайлович Соловьев писал, что опричнина явилась предтечей междоусобиц Смутного времени: «водворилась страшная привычка не уважать жизни, чести, имущества ближнего». Опричные расправы вернули Российское царство к временам удельной розни, вновь разделив страну на «своих» и «чужих», перечеркнув объединительные усилия царя и его сподвижников 1540–1550‐х годов.
Травматический психологический опыт, который принесла опричнина в русское общество XVI века, усугублялся еще одной острой проблемой – страшным разорением крестьян.
Глубокий экономический кризис явился самым очевидным результатом неудачной политики второй половины царствования Ивана Грозного, на которую наложились природные бедствия, обрушившиеся в это время на страну.
Проблемы в сельском хозяйстве начались уже в 1560‐е годы. В Новгородской земле крестьяне в 1552–1556 годах отдавали в налоги 8,7 % урожая, в 1561–1562 годах – 15,1 %, а в 1570–1571 годах – уже 18,8 %. Помимо налогов, существовали многочисленные повинности. В 1563 году власти Иосифо-Волоцкого монастыря жаловались на запустение земель из‐за того, что крестьяне «тянут с тяглыми людьми всякие розметы и наши[6], де, дани дают, и в ямских слободах дворы ставят, и с подводами на ямех (почтовая станция. – С. Ш.) безпрестани стоят». В дальнейшем ситуация только ухудшалась, и в 1590‐е годы на некоторых территориях крестьянин отдавал уже половину или больше половины вложенного труда.