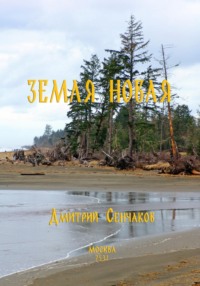Полная версия
Стоп-кран

Дмитрий Сенчаков
Стоп-кран
И, если боль твоя стихает,
Значит, будет новая беда.
Алексей Романов, 1975 год
Глава 1
Путёвка в ж…
Монолитная утятница хоть и тяжела, но мелковата. Одно название! Скорее, цыплятница. Ну или там перепельница. Однако наш сизый безголовый утёнок, каким-то непостижимым фартом выхваченный из гулкой от собственной пустоты кулинарии, в ней худо-бедно поместился. Обнаружились даже некие кармашки, щели, выемки, лакуны, закутки – одним словом, объёмы, куда Костя деловито насыпал гречку, чудом уцелевшую на дне холщового мешка с той ещё, прошлогодней осенней поездки в колхоз за хавчиком в обмен на ширпотреб. Настрогал усохшую половинку луковицы, обкорнал увядшую гуттаперчевую морковку, подсыпал соли и выдохшегося молотого перца. Лаврового листа у нас не было. Чеснока – и подавно. Я раскочегарил певучую газовую колонку и плеснул в гречку горячей воды из-под крана.
Обихоженная утятница отправилась в духовку. Пошарпанная крышка едва цеплялась за зёв бывалого казана, норовила слететь. Мы присели у плиты на корточки, грели руки. Август выдался ветреным и тревожным. Такими были и мы. Не тревожиться было невозможно. Просто не получалось. Поэтому «держать нос по ветру» и свободно флюгерствовать было естественным способом пробраться живым и невредимым сквозь те незадачливые времена.
В переулке стреляли. Два выстрела. Сухие раскатистые щелчки кнутом.
– Тэ-тэ, – сказал Костя.
Я зачем-то кивнул, хотя в оружии не разбирался. Нам даже не пришло в голову полюбопытствовать, что там происходило. Кто-то пробежал под самыми окнами. Где-то в городе грохотали танки. Население активно рушило своё нелюбимое государство. Телевизор за стенкой у соседей крыл «Лебединым озером».
Форточка задраена. Сидим на полу, укрытие – не только мощь стены в три кирпича, но и холодный чёрный металл чугуний. Это я про впавшую в сезонную спячку батарею.
– Может, уедем к моим, в деревню? – предложил я. – Там соседка на лето кур заводит. Подросших курочек-несушек по весне покупает в совхозе, а осенью забивает.
– Не поможет, – не сразу отозвался Костя, думая о чём-то другом.
– Почему не поможет? – я пронзил его взглядом. – Она ж яйцами торгует.
– Вот пусть твои там и отъедаются, – Костя криво усмехнулся, – перед голодной зимовкой. Может, догадаются хотя бы грибов насушить…
Забегая вперёд, посетую, что грибов они не насушили. Привезли целую авоську щавеля. Накромсали, утрамбовали и заморозили в полиэтиленовых пакетах. Хлебай зелёные щи хоть всю зиму. Но витаминами бело́к и жиры не заменишь. Рациончик, прямо скажем, на любителя.
Мои гостили у бабулиной старшей дочери, то есть у маминой сестры. Короче, у моей тётушки. Вековой сруб-пятистенка в заброшенной владимирской деревне без дорог и направлений, слывущий в народе «домом с роялем», был приобретён ею за символическую сумму в качестве дачи на лето.
Старинный немецкий рояль Bluthner в доме действительно присутствовал. Звучал он в меру. Породисто сопротивлялся обстоятельствам. Что было взять с инструмента, пережившего вереницу бессчётных неотапливаемых зим? Как попал он в эту избушку, оставалось загадкой. Ни один из проёмов дома не соответствовал габаритам рояля. Очевидно, что рубили жилплощадь уже после того, как закатили рояль на широкие массивные доски дубового пола в будущую светлицу и городили бревенчатые стены вокруг него. История замылила, ради какой хорошенькой и талантливой крепостницы барин создавал сей музыкальный храм.
Сестра оттягивалась на рояле в четыре руки с двоюродной племянницей, немногим её младше. Пассажи возводились на фундамент из двух или трёх последовательно перебираемых тональностей, большей частью минорных. Инструмент строил, как мог, ибо деликатной настройке не поддавался. Рояльный лак облупился, шпон пошёл волнами. Струны и колки ещё держались, но деке была хана́.
В прошлом году мы с Костей завалились в «дом с роялем» в конце октября. Тётушка дала ключ, и мы устроили в нём склад ширпотреба, который предназначался колхозникам. Поездка была бестолковой. По-хорошему, надо было ехать на рязанщину или на тамбовщину. В направлении чернозёма. На кой чёрт мы попёрлись в нищую владимирщину – меня надо побить палками, ведь это я распалялся о том, как классно в этой деревне.
Летом, конечно, да! Неплохо. Река Нерль, песчаные берега, сосняк, наглые одутловатые комары, что барражируют с громким басовитым зудом. Но октябрь оказался в крайней степени депрессивным. Ли́ло с утра до вечера. Понятно, откуда Волга столь полноводна: в верховьях её притоков недельные непрекращающиеся дожди – это климатическая норма. Надеваешь шестерные носки, а потом грязиновые сапоги. Что пахота, что болото – сапоги норовят залипнуть в жиже, а нога – выскочить из тёплой норы… Так что и шесть пар носков не спасают.
Облупился лак на фанерке «уссадьба», пришурупленной к двери нужника в далёком и благополучном восемьдесят пятом. Покосилось давно не крашеное крыльцо. Сгнила́ ступенька.
В доме раскочегарена русская печь. Преют свитера, парят бушлаты. Тают свечи, так как электричество в розетке появляется редко. То ли аварии какие на подстанции зачастили, то ли попросту отключают из экономии… Выяснять не у кого. В деревне полностью отсутствует электорат: ноль жителей. Соседка-дачница порезала кур, ощипала, обожгла на углях, сунула тушки в сумку-холодильник, да и ходу в Рязанцево на электричку до Александрова. Оттуда – с пересадкой в Москву. Прямого сообщения нет.
По утрам брели по ночному снежку на большак, ловили редкий зилок, шарахались по району, отирались по конторам окрестных колхозов. Втирали очки и втирались в доверие. И так целую неделю.
Руководители сетовали, что забросило их государство. Ни тебе дотаций, как раньше, ни списания долгов. А своим умом и своим трудом в сложившейся системе хрен проживёшь.
Идём втроём по селу. Урчит заброшенный трактор «Беларусь». Утонул по о́си в грязище и посасывает себе соляру. Председатель колхоза, всё ещё подававшего призраки жизни, размышляет вслух. По новым законам колхоз надо на паи раздробить, раздать колхозникам. Мол, паи эти станут основой процветания фермерских хозяйств. По факту же – это контрольный выстрел в голову порядку на селе. А колхозникам – пьянство и голодная смерть. Мало кто готов объединяться в новые артели.
– Вот такой тут у нас пыллумаяндус1, – подводит итог председатель, каким-то нелепым советским ветром занесённый в эти края эстонец. Убеждённый коммунист.
Молотит дизель у трактора. Тракторист ушёл на МТС2 за подмогой и надолго пропал, ибо по пути – сельпо3. Бесхозяйственность цветёт покруче борщевика, который благополучно отвоевал у тружеников села́ половину посевных площадей.
На другой день оказываемся в совхозе. Давно миновали пятилетки ударного труда скотоводов. Нынче в коровниках стоят тощие лохматые коровы. Скотники отправлялись отоваривать талоны на водку и не возвращались неделями, поэтому коров подолгу никто не кормил. А по-хорошему и кормить-то было нечем, так как сенозаготовки безнадёжно провалены. Доярки – худые и измученные, глаза погасшие, щёки впалые. Зоотехник и иные сельчане сменили «коней на жигулей», да и те не крестьянским трудом поднялись, а на спекуляциях сигаретами да на самогоноварении. Гримаса капиталистической экономики: хорошо живут только те, кто медленно и методично убивает своих соседей.
Председатель совхоза, унаследовавший размах фантазий у хрестоматийного гоголевского персонажа, поведал о намерении запустить в совхозе сосисочный цех. Мол, есть выход на немецких производителей колбасного оборудования. Нужны кредиты. Честный человек Костя, который изначально насквозь видит все эти схемы, красочно объяснил председателю, чем его затея закончится. Напоследок похлопал по плечу и подбодрил:
– Инвестируют не в бизнес, а в человека. В яркого, крепкого, харизматичного, целеустремлённого. Вот такого, как вы.
Мы ушли, а тот так и остался стоять под накрапывающим дождём, прикидывая, почём нынче килограмм пищевой нержавейки, и как быстро местные спецы раздербанят сверкающие немецкие линии на металлолом.
Всю ночь по окрестным деревням оттопыривались певчие псы. К утру охрипшие, легко загасились петухами и разбрелись отсыпаться по сгнившим будкам.
Снег сменялся дождём, дождь сменялся снегом. Череда одинаковых то ли дней, то ли скупых календарных дат неожиданно лихо сказывалась на нашем психическом состоянии, истощая не столько силы, сколько порывы. Выхолащивала энтузиазм.
– Хорошо хоть коровососущие не летают, – попытался я поднять боевой дух. – Не сезон. У меня на этих оводов со слепнями особый зуд.
– А знаешь, – как-то раз высказался Костя, когда брёхали по серо-коричневой жиже обратно с большака, – можно сотни раз сожалеть об этом сиром домишке в жопе мира…
– Почему ж это сожалеть? – запротестовал я, ведь изба принадлежала моей родне.
– Потому что рядом с ним ничего нет, – спокойно объяснил Костя, – нет ни школ, ни фабрик, ни моря, ни гор, ни водопадов, ни парка культуры и отдыха с кафе или столовой. Даже часовни какой и то нет. Нет ни телефона, ни телеграфа, ни железной дороги, ни рейсового автобуса. А велосипед здесь бесполезен, по этой грязи не проедет. То есть в нём, в этом убогом домишке, нет никакого смысла. Жизнь обошла его стороной. Прошла и не приметила, не заприветила. И всё-таки иной раз наполняешься радостью по поводу того, что он есть!
– И что это за повод? – сдался я.
– Вот ты находишься в жопе мира. Ты устал, запыхался, озяб, заколдобился, тебя корёжит и плющит, но через каких-то метров триста тебя ждёт тёплый дом, где ты можешь скинуть сапоги и развалиться на вековом кожаном диване. А кроме того, сидя в мороз в деревянном сортире под гостеприимной вывеской «уссадьба», так приятно осознавать, что НАТО можем уничтожить одним махом… Это ли не настоящее счастье?
– Однако если бы ты находился в какой-то другой жопе мира, ты был бы всего этого лишён, так как в другой этой самой жопе у тебя такого домишки нет!
– Вот-вот!
– Интересно, сколько их на земле?
– Кого? – не уловил Костя.
– Этих самых жоп мира. Представь: «Революция в туриндустрии! Путешествие по жопам мира!» Можно, я застолблю создание монографии?
Костя толкнул калитку и прислонил мешок к пожухлой кочке.
– Хочу солнца. Срочно. Если прямо сейчас его не включат, я не поверю, что оно вообще существует.
Ультиматум был так себе, но Партком Парткомыч услышал моего друга и сжалился над ним. Слабенький новорожденный лучик едва коснулся наших щёк. Мы не успели даже зафиксировать, в каком секторе неба находилась в тот момент надменная звезда.
– Пошли жарить грибы, – проронил Костя сквозь зубы, когда всё кончилось.
Вылазка подходила концу, ибо закруглялся в ней смысл. В итоге в Москву уехал мешок капусты, полмешка гречки, полтора мешка картофеля, авоська лука, кулёк чеснока и два мешка яблок. Пришлось тащить обратно и половину ширпотреба, на который колхозники рот разевали, но меняться им было уже нечем. Житие-бытие в сквернозёмной зоне рискованного земледелия давало о себе знать: перезимовать бы самим. Это у иных там о чернозёмах – роскошное раскованное земледелие. Хотя разгильдяйства и не меньше.
Накануне отъезда топтались с Костей под куском укрывного целлофана, ибо изрядно дождило. Обдирали раздавшуюся, вполне довольную своей сирой жизнью, траченную лишайником черноплодку. Обдирали остервенело, словно мстили бессловесному кусту за тупиковость выбранного пути, за тупизм идей. Наварили в Москве целый таз варенья – ели его всю зиму. Пряное, терпкое, вяжущее… и не кончающееся! К весне возненавидели до тошноты. Почему-то никто из нас не догадался добавить в варенье яблок. А ведь они гнили. Не успевали мы их сгрызать.
Нахлынувшие воспоминания о прошлогодней поездке не отменяли голод сегодняшний. Через час Костя полез проверять утятницу. Откинул крышку духовки, уцепился за чугунные уши через дырявую фуфайку с начёсом, чтобы не обжечься. Потянул на себя. Сдвинул массивную крышку. Опахнуло разваренной гречкой с луком и перцем. Организм мгновенно и обильно дал слюну. Но обломал утёнок. Сизый и осклизлый, за час томления в духовке его внешний вид не изменился ни на йоту. Мы смотрели на него в четыре внимательных глаза, и у нас даже не мелькнуло желание ткнуть в пупырчатую шкурку кривой алюминиевой вилкой.
Утятница задвинулась обратно. Я достал отощавший мешок сухарей, что бабуле прислали родственники с Украины. Конечно, изначально в посылке была и домашняя колбаса в натуральной кишке, та, которая «пальцем пиханная», и сало, и семечки, и даже мак, но всё это добро давным-давно утилизировано по прямому назначению. Лишь пара горстей сухарей – это всё, что осталось на дне фанерного ящика, крышка которого расписана химическим карандашом: «Ценность – десять рублей», адрес, индекс…
Десять рублей, хмыкнул я. Да за десять рублей и десятой части содержимого той посылочки не отхватить. Нет таких цен давно! Повезло, что на почте не спёрли.
На плите деликатно засопел чайник. Мы молчали, он посапывал. Опухший тактично привлекать к себе внимание, чайник в итоге отринул ложную скромность и захрапел, чем без труда вывел нас из гнетущего оцепенения.
Сосали сухари, растягивая их на долгие минуты ожидания главного блюда недели. Пытались выжать из каждого кубика все его скудные калории. Молчали. Ибо не болталось. Вообще мы с Костей уже давно перестали активно общаться, что-либо обсуждать, спорить или что-то рассказывать друг другу. Как-то и без того всё было понятно. Понятно, что ничего не понятно. Но оно ж и так понятно. Можно особо не распространяться по данному поводу. А заодно и по любому другому тоже.
Миновал тревожный август. По осени оживилась горбушка. Я традиционно катался на толчок по субботам, менялся фирменными пластинками. Принцип простой: бродишь среди пиплов, вымениваешь интересную пластинку, дома записываешь её себе на магнитную ленту переславской фирмы «Славич». В следующие выходные обмениваешь пласт ещё на что-нибудь радостное. Так домашняя фонотека по крупицам пополнялась качественно звучащими «мастера́ми», то есть первыми копиями с винила.
Вот только по итогам вереницы обменов выяснялось, что рыночная стоимость товарной единицы необратимо снижается. Рано или поздно приходилось добивать пятёрку, а то и чирик. Яша укорял меня за отсутствие коммерческой жилки. Я возражал ему, что жилка эта у меня есть, только вот почему-то она на музыку не распространяется. А сам успокаивал себя, что на круг всё равно выходит дешевле, чем заказывать в «Звукозаписи» у Алика на проспекте Мира, 39.
Впрочем, иные альбомы живьём не попадались, и услугами заведений приходилось пользоваться. Так, например, салон Аверьянова на Ленинском, рядом с универмагом «Москва», был единственным местом, где можно было разжиться записью двойного альбома группы Genesis The Lamb Lies Down on Broadway 1974 года. Этой пластинки не было даже у Алика, до «Звукозаписи» которого мне было пять минут пешком от дома.
Сам же Яша уже тогда замахнулся на построение собственной коллекции нулёвых первопрессов в полном фарше, то есть со всеми вкладками и постерами. Сделки традиционно закрывались в его пользу. Уж если Яша продаёт пластинку, будьте спокойны, навар у него есть. Он не просто был «доставалой». Он был одним из самых успешных «доставал» редкостей среди всех местных пиплов. Приёмчики Яши были достойны зависти. Стои́шь, бывало, с Яшей в эпицентре тусни, ля-ля о том о сём. Вокруг вертятся знакомые рожи с заученными до скуки списками одних и тех же пластинок на обмен, месяцами порхающих по кругу из рук в руки. И тут… он незаметно исчезает! Объявляется через полчасика, и видно, что сумка заметно потяжелела.
– Вон, – говорит, – видишь, человечек бродит. Это Санюга Пюпитерский. Ес-сно, как легко догадаться, из Питера. Я только что перехватил его на аллейке и выгреб у него всё самое интересное.
– Ты знал, что он приезжает?
– Нет. Я просто увидел, как он идёт сюда от метро.
Я поражался Яше. Он не просто сёк издалека иногородних курьеров. Он постоянно выхватывал из толпы незнакомцев, которые, будучи в командировке в Москве, посещали стремительно набирающий федеральную популярность музыкальный толчок. Если у новичка была пластинка на продажу, Яша был тут как тут с наличными. Если человек забредал что-то приобрести – пока остальные пиплы только разевали рот, Яша уже вынимал искомое из своей сумки.
Появлялись на горбушке два приятеля, молодые партнёры-бизнесмены Фима и Граня. Подкатывали то на новой «Ладе-2107» Фимы с номером 9111, то на новом сорок первом «москвиче» Грани с номером 9112. Серенький «москвич» часто ломался, видели мы его редко. Забегая вперёд, отмечу, что ту алую семёрку потом у Фимы купил Яша, после того как разбил отцовскую «копейку», и рассекал на тех же номерах с тремя единичками по генеральной доверенности.
В то время автомобили парковали прямо на площадке перед ДК им. Горбунова. Никаких шлагбаумов и пешеходных зон (кроме аллейки, а она относилась к Филёвскому парку) не было и в помине. Все мобилизированные граждане были на виду.
Однажды Фима подошёл к нам с Яшей и спросил, не хотим ли мы подзаработать? Яшины глаза заблестели. Но по мере погружения в предмет ему стало скучно.
– Я не буду этим заниматься, – отрубил он и отчалил.
Я же смекнул, что это идеальная идея для нас с Костей. Суть её заключалась в том, что Фима с Граней оптом закупают дефицитные холодильники «Атлант» на Минском заводе холодильников. Первая партия уже находилась в арендованном ангаре на задворках одного из научно-исследовательских институтов на Лесной улице. Требовалось наладить сбыт. Конечно, холодильники на импортных комплектующих разлетаются как горячие пирожки. Но это когда люди знают, где их брать. Наша помощь делу и должна была заключаться в информировании населения, куда за ними ехать. За каждого привлечённого клиента Фима пообещал солидный процент.
Пожали руки и разбежались. Вечер той же субботы Костя потратил на занятие каллиграфией. Он старательно вычерчивал под копирку пачки объявлений о продаже холодильников «Атлант», оканчивающиеся колонками с домашним телефоном, которые я далеко не столь аккуратно разрезал ножницами на лапшу. Шарахаясь от бродячих собак, попёрлись в ночь расклеивать объявления по району.
С утра нацелились принимать звонки. Но телефон упорно молчал весь день. Часов в пять вечера Костя решил поднять трубку и обнаружил, что гудка нет! Я метнулся к себе – у нас гудок был. Значит, с линией всё в порядке. Разобрали Костин аппарат. Но дело оказалось не в нём. Телефонный шнур вывалился из вилки, когда мы попытались выдернуть её из розетки, чтобы замерить в ней напряжение. Оказались переломаны тонкие медные контакты.
Я вспомнил, как надысь размашисто споткнулся о телефонный шнур в тёмном коридоре Костиной квартиры, и почувствовал себя виноватым. Молча зачистил провода и прикрутил всё как надо. Связь была восстановлена.
И телефон взорвался! Мы, сменяя друг друга, приняли тридцать три звонка, на пару охрипнув к позднему вечеру, когда шквал звонков иссяк. Успех ошеломил. Дюжина покупателей готовы прямо завтра покупать однокамерные холодильники, и ещё двое замахнулись на дорогие двухкамерные. Мы записали фамилии страждущих и велели им явиться в понедельник к десяти часам утра в указанный НИИ на Лесной улице.
Я набрал Фиме и предупредил его. Он заверил меня, что всё будет хорошо.
Хмурое сентябрьское утро очередного календарного понедельника встретило нас зарядом квёлых тополиных листьев. Безалаберный сквознячок просочился в арку и теперь играючи разметал падшую листву, игнорируя тщетные попытки дворника собрать их в кучку. Проспект пердел прохудившимися резонаторами выхлопных систем всех мастей. Осыпая искры с влажных проводов, прогудел мимо ржавый сорок восьмой троллейбус. Перешли артерию на законный зелёный у «Галантереи» и махнули на Трифоновскую. Немытые витрины магазина «Одежда» зеркалили раздолбанный асфальт и свинец неба того же оттенка. Навстречу, грузно переваливаясь на разошедшихся стыках, старательно облизывал кривые рельсы трамвай неубиваемой чешской конструкции пятого маршрута. С ним нам было не по пути, а аналогичного трамвая по параллельным рельсам в обратном направлении пока не просматривалось.
Впрочем, изрядно замёрзнуть мы не успели. От городского акустического фона отделился и принялся нарастать электрический гул, звон стёкол, скрип раздавленного песка, перетираемого стальными катками в ложбине рельсов. Наконец с воем трущихся о стрелку реборд вагон вывернул с улицы Гиляровского и отметился на остановке.
Прокомпостировали два талона и повисли на штангах под потолком. В трамвае тепло и многолюдно. Я принялся рассматривать утренних понедельничных пассажиров и фантазировать на их счёт.
– Смотри, Костя, – шепчу ему на ухо, – вон сидит Изверги́я Сердеевна Злобадамска́я.
Костя повернул голову на заштрихованную толстым слоем грима сморщенную и перезагорелую особу в бархатной шапочке с брошкой. Её лицо было странным образом перекошено, но абсолютно ничего не выражало.
– Она едет к зубному. Воспалился плохо прочищенный канал под золотой коронкой.
– Жертва подтяжки лица, – лениво возразил Костя.
– А вот! Вот Кондрат Мефодьевич Монтекри́стов!
– Ого! – тут уж Костя не смог сдержать улыбку.
Коричневый плащ с погончиками. Чёрная кожаная перчатка утвердилась на поручне, рукав обнажил запястье. На нём – массивные часы «Слава» жёлтой латуни, которая при должной фантазии сойдёт за золото. Серый шёлковый шарф с рисунком из «огурцов». Из-под него выглядывает тёмно-синий галстук. Таких у нас не делают: с королевскими лилиями, вплетёнными нитью смежного оттенка. Аккуратно подстриженные по моде семидесятых баки, огромные очки в роговой оправе и пижонская шляпа трибли, впрочем, излишне насаженная на уши, ибо на улице реально холодно.
– Графа ждут в министерстве, а у него «Бентли» поломался.
Костя деликатно ржёт, а я распаляю воображение:
– Знакомься, Асбест Платонович Куль-баба.
Речь шла о полноватом непричёсанном сударе с красной кожей лица. Могучий борт его расстёгнутой куртки висел этаким стакселем, задранный могучей рукой, прицепившейся к подпотолочному поручню. Парус загораживал обзор сидящей у его ног старушке, которая безуспешно пыталась дать о себе знать.
– А это библиотекарь университетского Аптекарского огорода Февронья Потапышна Взбулькис. Да-а, редкой профессии человек: библиаптекарша.
– Такие тоже нужны!
– Видишь, ему не до неё. У него трагедия. Он вот уже четверть века безуспешно пытается запатентовать своё изобретение.
– Какое? – не терпится Косте.
– Ну, пусть, скажем… – виляю я, так как ответ возникает не сразу, – он изобрёл новую канцелярскую кнопку. С выточкой под ноготь для управления процессом прикнопывания в реальном времени.
Костя тихо уссывается, а меня уже не остановить.
– За ним… Ну вот тот, с кем они переталкиваются попами, это – Эраст Фомич Протозойский. Правая рука второго зама по бумажной работе швеи бисером седьмого разряда Всеславы Вениаминовны Отъехало-Дурасовой. А вот, впрочем, и она сама. Восседает у ног своего телохранителя, любезно согласившись подержать на своих мощных коленях его потрёпанный портфель с её же, впрочем, заявлением в ЗАГС. О чём заявление? О смене фамилии, о чём же ещё? На какую? Конечно, на Орехову-Борисову. Пропуск в светское общество. Ведь Всеслава Вениаминовна Орехова-Борисова мечтает председательствовать в Клубе бывших советских старост имени Михал Иваныча Калинина.
Трамвай гремел, пассажиры сменяли друг друга, меня несло. МИИТ, Пали́ха, долгий светофор через Новослободскую перед Лесной. В конце концов соскакиваем с подножки, минуем криво припаркованную алую семёрку с тремя единичками и несёмся к невзрачной проходной. Ступеньки давно раскрошились под сотнями суетливых ног. Глаз стеклянной официальной вывески безнадёжно выбит, так что как официально звался тот институт, выяснить не удалось. Производственные часы «Стрела» в холле показывали 10:05. Нас никто не окликнул, и мы ввинтились по лестнице до курительной площадки между третьим и четвёртым этажом. Там, на широком подоконнике продуваемого сквозняком окна во внутренний дворик сидел рано полысевший мужчина с ясными светлыми глазами, мял в руках вязаную шапку.
– А я уже думал, вы не придёте. Решил, шутка какая. Мне холодильник позарез нужен. Полпоросёнка вчера привёз из деревни и такой неприятный сюрприз! Наша старая «Ока» сдохла.
Костя вычеркнул одну из фамилий в списке, а я проводил её обладателя в кабинет… Пардон, в офис Фимы и Грани. Постучался, просунул голову в щель и многозначительно подмигнул пинающим балду бизнесменам.
Почин – на лицо, хотя ничего общего со вчерашним телефонным ажиотажем он и не имел. Мы расплющили задницы о холодный подоконник. За покромсанными ветками тополей поблёскивал полукруглый оцинкованный ангар с заветными холодильниками. Костя помахивал листочком с фамилиями. Безлюдной лестницу назвать было нельзя. Народ то и дело шастал, и мы с пристрастием и надеждой всматривались в каждого, кто поднимался мимо нас в верхней одежде. Одна семейная пара заговорила с нами.