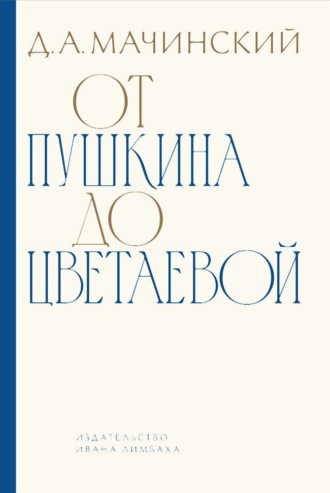
Полная версия
От Пушкина до Цветаевой. Статьи и эссе о русской литературе

Дмитрий Мачинский
От Пушкина до Цветаевой. Статьи и эссе о русской литературе
© Д. А. Мачинский (наследники), 2022
© Н. А. Паршукова, составление, подготовка текста, 2022
© Е. А. Романова, статья, 2022
© Н. А. Теплов, оформление обложки, 2022
© Издательство Ивана Лимбаха, 2022
* * *Об этой книге
Дмитрий Алексеевич Мачинский (1937–2012) – потомственный археолог, историк, многолетний сотрудник Эрмитажа. Сферой его научных изысканий были наиболее яркие явления предыстории России, включая скифскую эпоху, процесс формирования Российского государства и основные узловые моменты его истории. Мачинский – автор около ста научных работ, опубликованных в отечественных и зарубежных периодических изданиях. В 2018 году в издательстве Ивана Лимбаха вышел обобщающий сборник трудов ученого по истории и археологии[1], подготовленный к печати его учениками.
Особое место в жизни и научно-просветительской деятельности Мачинского занимала русская поэзия. Знаток русской культуры и литературы, на протяжении многих лет Мачинский блестяще читал лекции на различных площадках города о поэтах и писателях золотого и серебряного веков, неоднократно выступал на конференциях, готовил к публикации научные статьи и эссе.
В книгу вошли все обнаруженные на сегодняшний день работы Мачинского, посвященные русским поэтам. При жизни автора, увы, ни одна из них не увидела свет. В виде рукописей, иногда как отдельные разрозненные фрагменты, они хранились в архиве исследователя среди рабочих материалов, черновиков, кратких заметок.
Диапазон написания публикуемых материалов – конец 1970-х – начало 1990-х годов. Именно к этому периоду относятся два принципиально значимых для исследователя замысла: книга о Марине Цветаевой – итог тридцатилетнего интенсивного размышления над ее личностью и поэзией, и развернутое историософское эссе о Пушкине, к созданию которого Мачинский, по собственному признанию, готовился всю сознательную жизнь. Из двух монументальных проектов, к сожалению, до конца был доведен только один.
Открывает сборник до сих пор не утратившее ни концептуальной новизны, ни научной актуальности, во многом идущее в разрез с официальным пушкиноведением, однако строго выдержанное в русле философско-метафизических провиденциальных прозрений поэтов и мыслителей Серебряного века эссе «А. С. Пушкин: от вещего Олега до Медного всадника». Текст эссе публикуется по авторизованной машинописи начала 1990-х годов с внесением необходимых исправлений и добавлений согласно авторским пометам. Насколько значима для Мачинского была личность А. С. Пушкина, насколько она была «просвечена» в его сознании «лучом» Марины Цветаевой, можно судить по лаконичной дневниковой записи 1981 года:
М. б., я дорасту – до Пушкина? До этого – не сбывшегося до конца – покровителя? До этой – тайны и любви МЦ? И вместе с ней – подумаю о нем?
Второй раздел объединяет материалы (главы и связанные с ними научные статьи), которые должны были в том или ином виде войти в задуманную, но так до конца и не осуществленную книгу о Марине Цветаевой. Работа над книгой, насколько можно судить по черновым тетрадям, проходила в несколько этапов с конца 1970-х годов. Первый датированный план в черновиках помечен 1978 годом. Там же приводятся варианты условных названий. Временем наиболее интенсивного погружения в цветаевские темы стало для Мачинского последующее пятилетие. С 1978 по 1983 год им был написан основной корпус текстов, составивших второй, третий и четвертый разделы данного издания. Участие в 1982 году в первой цветаевской конференции в Москве, очевидно, стимулировало появление сразу двух подготовленных к печати статей – «„И по имени не окликну…“: А. Блок в жизни и поэзии Марины Цветаевой» (в соавторстве с И. В. Кудровой) и «О магии слова в жизни и поэзии Марины Цветаевой (по поводу сборника „Разлука“)». Последняя статья, планировавшаяся к выходу в одном из русских эмигрантских журналов, обсуждалась Мачинским с Д. Е. Максимовым. В черновой тетради сохранился ряд замечаний Максимова, зафиксированных Мачинским после разговора с ним. При жизни автора статья так и не попала в печать. Она была впервые опубликована (по черновой рукописи) только в 2019 году в сборнике статей и материалов к 90-летию Б. А. Зернова. Мы публикуем ее во второй редакции по авторизованной машинописи, которую сам Мачинский в начале 2000-х годов считал итоговым вариантом текста[2].
Статья «И по имени не окликну…», написанная в соавторстве с И. В. Кудровой, также существует в двух редакциях. Одна представляет собой беловую машинопись, которая была подготовлена для печати после выступления на конференции и отправлена ее организаторам. Другая – рукописный черновой автограф из архива Д. А. Мачинского, имеющий существенные расхождения с машинописью. Именно этот, исходный, текст, написанный рукой Мачинского, и был взят нами за основу настоящей публикации.
Точно датировать две сохранившиеся в рукописях главы книги – «Думали – человек…» и «В луче Блока» – не представляется возможным. Однако записи черновых тетрадей позволяют их отнести с большой долей вероятности к 1980–1981 годам, времени активной разработки Мачинским тем, связанных с А. А. Блоком. Осенью 1981 года, судя по тетрадям, сквозь мощный пласт размышлений на тему «Рильке – Цветаева» отчетливо прорастает мотив «древа» – «древесности» – «рябины», возникает «план большой работы о „Древе“, вбирающей частично в себя и тему Рильке», пишутся эссе «Тоска по родине…» и «О дереве, о Боге и о себе» как вводные части и первые подступы к основному сюжету – циклу «Деревья».
Две вполне завершенные статьи – «Блок, о котором молчат или лгут» и «Миф Блока в поэзии и жизни Анны Ахматовой», восстановленные нами по черновым рукописям, – составили третий раздел книги. Первая из них помечена 1980 годом – юбилейным в биографии Блока. К этому же времени относится и фрагмент эссе «О чертах личности <…> Блока», вошедший в четвертый раздел, где собраны неоконченные работы автора, отрывки из рабочих тетрадей, наброски, планы. Особое внимание в последнем разделе обращают на себя два чрезвычайно важных в концептуальном смысле отрывка. Оба они посвящены творчеству М. А. Волошина, осмыслению его судьбы и основных составляющих его личностного мифа. Тема наиболее отчетливо проступает в рабочих тетрадях летом – осенью 1982 года, когда в цветаевском луче начинают явственно просматриваться волошинские темы, появляется развернутый план еще одной эпохальной работы историософского направления – эссе, а возможно, и монографии о «коктебельском кентавре».
Все поэтические цитаты сверены по современным, наиболее авторитетным изданиям, список которых приводится в Библиографии. Датировки произведений, за исключением особо оговоренных случаев, сохранены в авторской редакции, несмотря на отдельные расхождения с более поздней научной традицией.
Выражаем глубокую признательность вдове ученого Людмиле Александровне Иволгиной, сохранившей и передавшей в работу ту часть архива, которая имела отношение к многолетним изысканиям Мачинского в области литературы; И. Ф. Завьяловой, принимавшей деятельное участие в расшифровке черновых тетрадей и фрагментов рукописей; Е. И. Лубянниковой, любезно предоставившей ряд ценных материалов.
Надежда Паршукова, Елена Романова
…Да поможет мне То, что хочет, чтобы всё было.
Д. А. МачинскийI. О Пушкине
А. С. Пушкин: от вещего Олега до Медного всадника
Когда возникает необходимость разговора о Пушкине, хочется умолкнуть, ни о чем не рассуждать и просто читать в той или другой последовательности (в зависимости от ракурса темы) его стихи и отрывки, смотря в глаза собеседнику с немым вопросом: «Ты понимаешь, что сейчас говорит через него? А сейчас? А как одно переплетается с другим?» Но так не принято, да на бумаге это и невозможно.
И посему известное речение Аполлона Григорьева «Пушкин – наше всё» обычно произносят с придыханием, восторгом и исключительно в положительном ключе. Присоединяясь к суждению А. Григорьева как к емкой формуле-образу, я, однако, произношу ее с другой интонацией, в которой восторг смешан со священным ужасом и с печалью.
Пушкин действительно наше «почти всё», а наше «всё», если оглянуться на историю… По европейским меркам «нет истории страшней, безумней, чем история России», как позднее сказалось М. Волошину.
Пушкин сам предвосхитил формулу А. Григорьева в стихотворении «Эхо»:
Ревет ли зверь в лесу глухом,Трубит ли рог, гремит ли гром,Поет ли дева за холмом —На всякий звукСвой отклик в воздухе пустомРодишь ты вдруг[3].«На всякий звук». Но волей судеб окружали его «звуки» преимущественно российские или всемирные, но преломленные русской душой, природой, историей, государственностью. И не только на «конкретную деву» отзывался он, но и на голос, если хотите, «Вечной женственности», зазвучавший в европейском духовном пространстве на рубеже XVIII–XIX веков и уловленный поэтами сначала там, «за холмом» (вернее – «за бугром»), в Европе. Отзывался он не только на конкретного «зверя» и его «рев», но и на рев «Левиафана», на голос имперской государственности как зарубежной (Наполеон), так и ревущей в русском лесу – отечественной (от Олега до Николая). Недаром «Эхо» датируется тем же 1831 годом, что и проимперские стихи «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина».
В разные периоды жизни Пушкин то склонялся к атеизму, то в нем пробуждалось глубоко религиозное восприятие мира. Но вне зависимости от этих колебаний вся жизнь поэта проходит под знаком того, что на бытовом уровне называют «суеверием Пушкина», что лучше назвать верой в судьбу, чувством судьбы. Тема некой неуклонной всеопределяющей силы, предначертания коей можно угадать по отдельным «знакам», не оставляла Пушкина никогда, и именно в южный, наиболее «атеистический» период его жизни была написана в 1822 году баллада «Песнь о вещем Олеге», стоящая особняком в его творчестве и до сих пор вызывающая недоумение.
Зрелый Пушкин чуждался классической баллады как жанра, а здесь мы имеем дело с чрезвычайно подробной разработкой широко известного сюжета в классических балладных традициях.
Что привлекло его в этом сюжете? Фигура вещего Олега как краеугольной личности русской истории всегда интересовала Пушкина, однако в балладе «государственные» и «исторические» подробности биографии Олега образуют лишь антураж, а вся суть – во взаимодействии отдельной могучей личности и ее воли с неизбежным предначертанием судьбы.
Не замечал ли ты, читатель, что во второй части баллады, где судьба неумолимо влечет Олега к гибельной встрече с конем и змеей, навязчиво возникает один доминирующий элемент пейзажа, упоминаемый четыре раза в семи строфах и становящийся важнейшим элементом образного строя «Песни»? Это холм-курган. Сначала на кургане пирует Олег с дружиной, потом ему сообщают, что конь его «почил» «на холме крутом», затем сам Олег видит, как «на холме, у брега Днепра, лежат благородные кости», и, наконец, на трупе Олега «князь Игорь и Ольга на холме сидят; дружина пирует у брега». К слову, последнее место явно указывает, что холм равен кургану. Два холма-кургана из трех помещены «у брега». Почему, собственно, кости любимого княжеского коня, который достоин погребения, должны лежать на виду у всех «на холме у брега Днепра», – а брег этот у Киева высок и крут? Или это – вариант погребения? Но суть Пушкин угадал точно даже в историческом плане, и его «холмы-курганы» на крутом берегу точно воспроизводят образ древнерусских «сопок», только не днепровских, а волховских, в древнейшей из которых у Старой Ладоги действительно обнаружено погребение коня VIII века, а две другие носят название «Олеговой могилы». Однако главное – не в историко-археологической интуиции Пушкина, а в его отчетливом знании, что описанное им судьбинное действо – встреча могучего героя с безмерной силой судьбы должна происходить (пользуясь выражением из «Медного всадника») «в вышине», на крутом, высоко вознесенном над берегом реки холме. Представьте зрительный образ действия: высоко на холме над рекой лежат белые кости и череп коня, над ними стоит, наступая на череп ногой, белоголовый Олег – это и есть свершение его неизбежной судьбы.
А теперь обратимся к свидетельству современников поэта о некоторых событиях, произошедших с ним в годы, предшествующие написанию «Песни».
Свидетельство С. А. Соболевского, одного из ближайших друзей Пушкина:
…Я часто слышал от него самого <от Пушкина. – Д. М.> об этом происшествии: он любил рассказывать его в ответ на шутки, возбуждаемые его верою в разные приметы. Сверх того, он в моем присутствии не раз рассказывал об этом именно при тех лицах, которые были у гадальщицы при самом гадании, причем ссылался на них. <…> …считаю нужным присоединить все то, о чем помню положительно <…>. Предсказание было о том, во-первых, что он скоро получит деньги; во-вторых, что ему будет сделано неожиданное предложение; в-третьих, что он прославится и будет кумиром соотечественников; в-четвертых, что он дважды подвергнется ссылке; наконец, что он проживет долго, если на 37-м году возраста не случится с ним какой беды от белой лошади, или белой головы, или белого человека (weisser Ross, weisser Kopf, weisser Mensch), которых и должен он опасаться.
Первое предсказание <…> сбылось в тот же вечер; Пушкин, возвратясь домой, нашел совершенно неожиданное письмо от лицейского товарища, который извещал его о высылке карточного долга, забытого Пушкиным. <…>
Такое быстрое исполнение первого предсказания сильно поразило Александра Сергеевича; не менее странно было для него и то, что несколько дней спустя, в театре, его подозвал к себе Алексей Феодорович Орлов <…> и <…> предлагал служить в конной гвардии. <…>
Вскоре после этого Пушкин был отправлен на юг, а оттуда, через четыре года, в Псковскую деревню, что и было вторичною ссылкою. <…> …Я как-то изъявил свое удивление Пушкину о том, что он отстранился от масонства <…>.
«Это все-таки вследствие предсказания о белой голове, – отвечал мне Пушкин. – Разве ты не знаешь, что все филантропические и гуманитарные тайные общества, даже и самое масонство, получили от Адама Вейсгаупта направление, подозрительное и враждебное существующим государственным порядкам? Как же мне было приставать к ним? Weisskopf, Weisshaupt – одно и то же» [ПВС 1998, т. 2: 9–10].
Далее – отрывок из записей разговоров Пушкина, сделанных В. Ф. Щербаковым; они, вероятно, восходят к записям М. П. Погодина, который систематически общался с Пушкиным с 1826 года.
А. Пушкин, в бытность свою в Москве, рассказывал в кругу друзей, что какая-то в Санкт-Петербурге угадчица на кофе, немка Киршгоф, предсказала ему, что он будет дважды в изгнании, и какой-то грек-предсказатель в Одессе подтвердил ему слова немки. Он возил Пушкина в лунную ночь в поле, спросил число и год его рождения и, сделав заклинания, сказал ему, что он умрет от лошади или от беловолосого человека. Пушкин жалел, что позабыл спросить его: человека белокурого или седого должно опасаться ему. Он говорил, что всегда с каким-то отвращением ставит свою ногу в стремя [Там же: 42].
Сравните: «уж не ступит нога в твое позлащенное стремя». Эти свидетельства дополняются рядом других. Между ними есть некоторые несовпадения, отдельные детали опровергаются или уточняются по источникам другого рода, но несколько взаимосвязанных деталей уверенно повторяются в целом ряде свидетельств.
Что бесспорно в этих сообщениях? Еще до отъезда на юг авторитетная гадалка предсказала поэту, что он сегодня или на днях получит деньги. Пушкин считал, что это невозможно. Деньги, однако, неожиданно появились. Несомненно, после этого от природы чуткий к приметам и предсказаниям поэт должен был с особым напряжением помнить второе предсказание той же гадалки. Достоверно, что в этом предсказании говорилось о смерти от белой головы и от лошади (или белой лошади). Только у Соболевского, близкого друга Пушкина и свидетеля надежного, встречаемся с предсказанием, что поэт проживет долго, если что-то не случится «на 37-м году». Достоверность свидетельства Соболевского, на мой взгляд, подтверждается странными действиями, которые предпринял Пушкин, когда ему исполнилось 37 лет.
По другим, также достаточно достоверным данным, предсказание в основных чертах было повторено на юге неким греком, гадавшим Пушкину по способу, напоминающему гадание Боброка и Дмитрия Донского перед Куликовской битвой.
Не сомневаюсь, что перекличка полученного Пушкиным предсказания о смерти его от «белой головы, белой лошади» с мотивом смерти Олега – по предсказанию от коня, а в реальности от белой головы лошади (то есть от черепа) – не могла не быть замечена поэтом и обострила его обычный интерес и к теме судьбы, и к узловым образам русской истории.
После того как мои взгляды на всю тему «от вещего Олега до Медного всадника» сложились и были изложены в лекциях, я наткнулся на прекрасную статью ученого структуралистской школы под названием «Вещий Олег и Медный всадник»[4], в которой отдельные мои соображения были предвосхищены, хотя во многом наши родственные концепции и расходятся. Чего не заметил автор этой статьи – так это темы «белой головы, белой лошади» в предсказаниях как одного из импульсов к созданию «Песни». И это тем более странно, что фамилия этого ученого Вайскопф, то есть «белая голова», в чем я, в традициях Пушкина, увидел знак, подтверждающий правильность моей концепции.
В своей эпической балладе, сопоставив тайно себя и Олега, Пушкин угадал неразрывную связь своей судьбы, как первого российского национального гения-творца, с судьбой России в национально-государственном плане (олицетворением которой является Олег) и, возможно, отчасти предсказал образно и собственную судьбу.
Одновременно с созданием «Песни» в сознании поэта подспудно идет поиск того краеугольного образа, в котором сконцентрирована судьба России. Естественно, первым кандидатом является все тот же Олег, и рядом с планом поэмы «Братья разбойники» (1821–1822) записан набросок другого плана: «Олег в Византию. Игорь и Ольга. Поход». А в набросках произведения о Мстиславе, сыне св. Владимира, поразительная историософская интуиция Пушкина выводит его на образ Ильи Муромца, краеугольного героя русского эпоса, через свое имя и функции, так же как Олег, связанного с темой Громовержца и архетипически являющегося его земной христианизированной ипостасью. Причем из всех сюжетов, связанных с Ильей, Пушкина безошибочно привлекает тема «сыноборчества» Ильи и связанная с «сыноборством» тема судьбы России. Вот эти записи, датируемые тем же 1822 годом:
«Илья в молодости обрюхатил царевну татарскую – она вышла замуж, объявила сыну, сын едет отыскивать отца».
«Илья идет за ним <за Мстиславом. – Д. М.> – встречает своего сына – сражается с ним…»
«Илья хочет представить сына Владимиру – вместе едут —».
«Илья находит пустынника, который пророчествует ему участь России».
«На Россию нападают с разных сторон все враги ее» [ПСС, т. 4: 294–295].
* * *В 1824 году Пушкин оказывается в Михайловском в связи с обвинением в «афеизме». Там до него и доходят сведения о происшедшем 7 ноября петербургском наводнении. Пушкин отзывается в письме брату: «Что это у вас? потоп! ничто проклятому Петербургу!» (письмо от 20 ноября 1824 года [ПСС, т. 10: 86]), а также ироническими стихами:
Напрасно ахнула Европа,Не унывайте, не беда!От петербургского потопаСпаслась Полярная звезда.«Ничто» в данном случае означает небытие, уничтожение. Выраженное в письме к брату отрицательное отношение к Петербургу – не случайность, в стихах поэта до «Медного всадника» незаметно, чтобы он особенно любил «Петра творенье». Симптоматично, что в обоих текстах наводнение трактуется как «потоп», то есть как Божья кара греховному городу. И никакого оттенка трагизма в трактовке события.
В 1825 году Пушкин впервые активно пытается изменить течение своей судьбы, до сих пор определявшейся отнюдь не им самим. Его политические взгляды этого времени, его верность идеалам личной и политической свободы, несмотря на искажение их в ходе Французской революции, выражены в стихотворении «Андрей Шенье». Поэт предпринимает попытку вырваться за границу под предлогом необходимости лечиться от аневризмы. Когда этот план срывается не без помощи друзей Пушкина, он в бешенстве пишет оставшиеся в неразборчивом черновике стихи «Заступники кнута и плети».
Приближается осень, годовщина «потопа», приближаются – о чем поэт не ведает – крупные перемены и потрясения в судьбе России и в судьбе Пушкина.
И тут в его стихах неожиданно появляется, и сразу – в состоянии движения, фальконетовский памятник Петру.
Брови царь нахмуря,Говорил: «ВчераПовалила буряПамятник Петра».Тот перепугался.«Я не знал!.. Ужель?» —Царь расхохотался:«Первый, брат, апрель!»Говорил он с горемФрейлинам дворца:«Вешают за моремЗа два яица.То есть, разумею, —Вдруг примолвил он, —Вешают за шею,Но жесток закон».Стихи эти сообщены Дельвигу в письме от октября – ноября 1825 года, то есть примерно в годовщину наводнения. Вчитаемся. Если отбросить сквозящую в каждой строке ненависть к Александру Благословенному, запершему поэта в Михайловском за несколько сдержанных «атеистических» строк в частном письме, поправшему его личную свободу, – то о чем, собственно, речь?
Устами самодержца говорится о буре, которая повалила главный памятник самодержавия, но затем выясняется, что это – не всерьез, памятник устоял. А затем в словах самодержца возникает тема повешения и жестокого закона. И все это – за месяц до декабрьского мятежа, который произойдет у подножия «Медного всадника» и кончится повешением руководителей восстания. Можно ли представить лучшее интуитивное предчувствие того, что произойдет 14 декабря? Пушкин гениально набормотал в стихах не для печати то, что иногда знал о будущем его поэтический дар.
Но Пушкин не был бы Пушкиным, если бы в такой роковой момент его провидческий дар выразился бы только в этих саркастических куплетах. Почти одновременно с ними он пишет стихи на лицейскую годовщину 19 октября, где среди прочего успевает простить царя, послать прощальный привет Пущину и Кюхельбекеру и уверенно предсказать, что через год его ссылка кончится и он вернется к друзьям…
Одновременно к годовщине наводнения (7 ноября) он завершает «Бориса Годунова», где на примере доступного для горьких откровений образа царя Бориса (не принадлежащего ни к Рюриковичам, ни к Романовым) ставит проблему расплаты царя за преступление против совести; преступление это, выраженное в детоубийстве, в убийстве царевича, то есть сына государя, сына и будущего России, скрыто представляет вариацию все той же темы сыноубийства как прирожденного и повторяющегося греха российских властей и российской государственности. Свое отношение к преступлению Пушкин выражает, как явствует из письма Вяземскому, голосом юродивого.
Затем, в начале декабря, Пушкин узнает о смерти Александра I. «Я пророк!» – пишет он Плетневу, считая, что в «Андрее Шенье» он предсказал ситуацию, связанную со смертью Александра и своим возможным освобождением из ссылки. Поэт садится в повозку, чтобы без разрешения вернуться в Петербург и скрытно явиться на квартиру Рылеева, где он должен был оказаться вечером 13 декабря. Но тут последовали недобрые приметы – дорогу стали перебегать зайцы, появился священник – этого чуткий к приметам Пушкин перенести не мог – и вернулся в Михайловское.
И начинается 1826-й, переломный год в жизни Пушкина. Он пишет письмо Николаю с объяснением и просьбой о помиловании. И все время надеется, что царь помилует его друзей. Но 24 июля он узнает о казни. Душевное напряжение Пушкина достигает предела… В начале сентября за ним является фельдъегерь, и 8 сентября в Москве происходит разговор Пушкина с Николаем I. Где-то около этого времени Пушкин создает своего «Пророка». В Полном собрании сочинений (1957, т. II) этот шедевр датирован 8 сентября 1826 года. Если принять эту дату, то получится, что Пушкин написал «Пророка» сразу после утренней аудиенции. Это маловероятно. Возможно, на 8 сентября падает какой-то этап работы над стихотворением. Скорее всего, оно создано между 24 июля и 8 сентября, а возможно, зародилось и еще ранее. В записках А. О. Смирновой-Россет, опубликованных ее дочерью, сообщается, что Пушкин отправился в Святогорский монастырь заказать панихиду «по Петре Великом» и там, ожидая ушедшего монаха, раскрыл Ветхий Завет на видении Иезекииля; текст этот чем-то поразил Пушкина, и через несколько дней ночью он написал «Пророка», слова которого «увидел во сне». Этому рассказу пушкинисты не склонны доверять, мне же кажется, что в нем присутствует отзвук истинного происшествия. Панихиду «по Петре Великом» дочь Смирновой-Россет вряд ли могла придумать (заказал же Пушкин 7 апреля 1825 года обедню за упокой души Байрона). Во всяком случае это устное предание связывает возникновение «Пророка» с имперской темой, с Петром.

