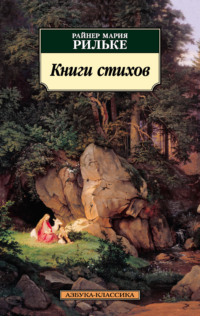Полная версия
Победивший дракона
Я не могу это недооценивать. Знаю, тут требуется мужество. Но предположим на мгновение, что у кто-то есть этот courage de luxe[52], высший кураж – пойти за ними, чтобы навсегда узнать (ведь кто бы мог снова это позабыть или перепутать?), куда они потом заползают, и что они делают во многие остальные дни, и спят ли они ночью. Особенно бы установить: спят ли они. Но и с мужеством еще не все ясно. Поскольку они приходят и уходят не так, как остальные люди, за кем идти следом проще простого. А эти и здесь, и снова их нет, поставлены и убраны, как оловянные солдатики. Места, где их находят, несколько удалены, но совсем не спрятаны. Кусты отступают, дорога немного поворачивает к лужайке: там они стоят, и вокруг них полно прозрачного пространства, как если бы они стояли под стеклянным колпаком. Ты мог бы считать, что они – задумчивые гуляющие, эти невзрачные мужчины небольшого роста, во всех отношениях скромного телосложения. Но ты заблуждаешься. Видишь ли ты левую руку, как она что-то берет в перекошенном кармане старого летнего пальто; как она находит, и неуклюже вынимает маленький предмет, и держит в воздухе так, что это бросается в глаза? Не прошло и минуты, как сюда прилетели две-три птицы, воробьи, и с любопытством, прыг-прыг, припрыгали. И если затем человеку удастся соответствовать их, воробьев, очень точному пониманию неподвижности, то нет никакой причины, почему бы им не приблизиться еще ближе. И наконец вспархивает первый воробей и нервно трепещет некоторое время на высоте той руки, которая предлагает (Бог знает) небольшой кусочек обкусанного сладкого хлеба – на невзыскательных, выразительно отрекающихся пальцах. И чем больше людей вокруг него собирается – естественно, на соответствующем расстоянии, – тем меньше он имеет к ним отношение. Он стоит там, как светильник, когда он догорает и светит огарком фитиля, и весь еще теплый, и ни разу не шевельнется. И как он манит, как приманивает, совсем не могут оценить стайки маленьких глупых птиц. И не окажись зрителей, и позволь ему стоять там достаточно долго, я уверен: вдруг появился бы ангел и преодолел себя, и съел давний сладковатый кусочек из опечаленной руки. Но перед ним на дороге, как всегда, стоят люди. Они заботятся о том, чтобы прилетали только птицы; они находят это более чем достаточным и утверждают, что он сам ничего другого и не ожидает. Чего еще могло бы ожидать это старое, залитое дождем чучело, с небольшим наклоном воткнутое в землю, как снятая с носовой части корабля фигура, какие порой видишь в маленьких садах у нас дома[53]; разве у него эта осанка не оттого, что когда-то и где-нибудь в своей жизни он стоял впереди, там, где движение самое мощное? Разве сейчас он такой выцветший не потому, что когда-то был ярким? Ты хочешь его спросить?
Только ни о чем не спрашивай женщин, когда видишь, что они кормят птиц. За ними можно даже пойти следом; они это делают мимоходом, как если бы это совсем легко. Но оставь их в покое. Они не знают, как это получилось. Вдруг у них в ручной сумке оказалось много хлеба, и они извлекают из своей протертой мантильи большие куски, куски слегка обкусанные и влажные. Это им приятно, что немножечко их слюны попадает в мир, что маленькие птицы с этим привкусом летают вокруг, даже если они этот привкус сейчас же забывают.
Я сидел за твоими[54], своенравный, книгами и пытался составить о них мнение, как и другие, кто не сосредоточивается на тебе, а приняв какую-то их часть, тем и удовлетворен. Тогда я еще не понимал, что такое слава, что это публичное разрушение возводимого, когда на строительную площадку врывается толпа, передвигая камни с места на место.
Неведомый молодой человек, если в тебе набирает высоту нечто такое, что заставляет тебя содрогаться, постарайся, чтобы тебя никто не знал. И когда они тебе возражают, те, кто тебя считает ничем, и когда они тебя не видят в упор, те, с кем ты общаешься, и когда они хотят тебя истребить за твои милые мысли, – ну что она, эта отчетливая опасность, скрепляющая тебя в тебе самом, по сравнению с льстивой враждебностью поздней славы, той, что тебя измельчит и обезвредит, рассеивая в пустую пыль.
Никого не проси говорить о тебе, даже с презрением. И когда придет время и увидишь, что твое имя на слуху, не воспринимай это серьезней, чем все, что исходит из людских уст. Думай: оно, имя, стало плохим, и сбрось его. Прими другое какое-нибудь, чтобы Бог мог тебя позвать в ночи. И таи его ото всех.
Ты самый одинокий из одиноких, самый отстраненный из отстраненных – как они настигли тебя, благодаря твоей славе. Как далеко то время, когда они основательно ополчались против тебя, а теперь обращаются с тобой как с ровней. И твои слова они возят с собой в тесных клетках своего невежества и на площадях выставляют их напоказ и осторожно дразнят их с безопасного расстояния. Всех твоих ужасающих хищных зверей.
Когда я читал тебя в первый раз, тогда они, твои слова, вырвались на волю и бросились ко мне в моей пустыне, отчаявшиеся. Отчаявшиеся, как ты сам в конце, ты, чей путь неверно обозначен на всех картах. Как прыжок, прошла твоя траектория через все небо, эта безнадежная гипербола твоего пути, когда он лишь один раз обогнул нас и удалился – в ужасе. Какое тебе дело до того, останется женщина или уйдет, закружится у кого-то голова или кто-то сойдет с ума, и окажутся ли мертвые живыми, а живые мертвыми: какое тебе дело? Все это стало таким естественным для тебя; ты прошел это, как проходят переднюю, не задерживаясь. Но ты пребывал и склонялся там, где все, что происходит с нами, варится, и выпадает в осадок, и изменяет цвет, – глубоко внутри нас самих. Еще глубже, чем там, где когда-то побывал уже некто (то есть ты); дверь перед тобой распахнулась, и ты оказался в колбе, в свете огня[55]. Оказался там, куда ты никого никогда не брал, недоверчивый. Там ты сидел и отмечал различия в переходных состояниях. И там, поскольку указания тебе давались в крови, а не через картины или речь, там ты принял невообразимое решение: то мельчайшее, что сам сначала обнаружил только при помощи стекол, теперь, надеясь уже только на себя, увеличить так, чтобы оно предстало перед тысячами, исполинское, перед всеми. Возник твой театр. Ты не мог ждать, когда эту почти лишенную пространства, столетиями спрессованную в капельки жизнь обнаружат другие искусства, и сначала она станет зримой для единиц, тех, кто мало-помалу самостоятельно подберется к ее пониманию и наконец захочет сообща увидеть подтвержденной сиятельную молву уже на распахнутой перед ним сцене[56]. Этого ты не мог дожидаться, ты пребывал там, внутри, тебе требовалось то, что едва можно измерить: чувство, когда оно поднялось на полградуса, угол отклонения почти ничем не отяжеленной воли, как только ты считал его с двух шагов, легкое помутнение в капле тоскующей страсти и ничтожно малое, ничто – в изменении цвета в одном атоме доверия: ты вознамерился это установить и удержать; потому что в таких процессах заключалась жизнь, наша жизнь, та, что в нас проскользнула, перетекла внутрь, и так глубоко, что об этом едва ли уже имелись предположения и догадки.
Будучи таким, каким ты был, настроенным на выявление, о вневременный трагический поэт, ты не мог не преобразовать в один присест эту капиллярность в самые убедительные жесты, в самые наличные вещи. Потом ты перешел к беспримерному силовому воздействию твоего творчества, поскольку оно все более нетерпеливо, все более отчаянно искало среди очевидного эквиваленты для видимого внутри. Там оказался кролик, и чердак, и зал[57], где некто ходит взад-вперед; звон разбитого стекла в соседней комнате, пожар за окном, там светило солнце. Там виднелись церковь и скалистая долина на равных с церковью. Но этого тебе не хватало; и вот уже появились башни и целые горные системы; и лавины, и они погребли эти ландшафты, засыпали сцену, и так уже перегруженную реально осязаемым, – ради непостижимого. Там, внутри, ты больше уже ничего не мог. Оба конца, которые ты пригнул друг к другу, мгновенно отпружинили; твоя обезумевшая сила вырвалась из эластичного стержня, и твоего труда как не бывало.
Как иначе уразуметь, почему в последние минуты ты не отходил от окна, своевольный, каким оставался всегда. Ты хотел видеть проходящих мимо, поскольку тебе пришла в голову мысль: нельзя ли в один из дней что-нибудь из них сделать, если, не откладывая, приступить.
* * *Тогда я прежде всего уловил, что никто не в состоянии ничего рассказать об одной женщине; я заметил, как они, рассказывая о ней, экономно ее приберегали, как они называли и описывали других, домашних и окружение, местечки, предметы, все вплоть до определенной точки, где все мягко и как бы осторожно замыкалось легким, никогда не прорисованным контуром, который ее со всех сторон запирал. «Какая она была?» – спрашивал я. «Блондинка, приблизительно такая же, как ты», – говорили они и перечисляли немало всякого, о чем они только знали. Но за всем этим она опять оставалась совершенно неопределенной, и я не мог больше ничего себе представить. Видеть, в сущности, я мог ее только тогда, когда maman рассказывала мне одну историю, и я снова и снова требовал ее повторить.
– И тогда, доходя до сцены с собакой, она всякий раз закрывала глаза, и совсем замкнутое, но все на просвет лицо как-то убедительно держала между ладоней, холодно прикасаясь к вискам кончиками пальцев. «Я это видела, Мальте, – заклинала она. – Я это видела».
Это происходило уже в последние годы, когда я от нее услышал этот рассказ. В то время, когда она уже никого не хотела видеть и всегда, даже путешествуя, носила при себе небольшое с мелкими ячейками серебряное ситечко и через него процеживала всякое питье. Твердой пищи она уже давно не признавала, разве что иногда съедала немного бисквита или хлеба, но даже их, когда оказывалась одна, мельчила и крошку за крошкой ела, как крошки едят дети. Страх перед иголками владел ею в то время уже полностью. Домашним она говорила, чтобы как-то оправдаться: «Я уже абсолютно ничего не переношу, но это не должно вас беспокоить: несмотря ни на что, я превосходно себя чувствую». Но она могла вдруг обратиться ко мне (так как я немножко уже подрос) и с улыбкой, требовавшей от нее немалых усилий, сказать: «Как же все-таки много иголок, Мальте, и везде-то они лежат, и, если подумать, как же легко они выпадают…» Она старалась сказать это как бы в шутку, но ужас заставлял ее вздрагивать при мысли обо всех плохо закрепленных иголках, готовых в любое мгновение где-нибудь и куда-нибудь упасть.
Но когда она рассказывала про Ингеборг, тогда с ней ничего не могло случиться; тогда она себя не берегла; тогда говорила громче, тогда смеялась, вспоминая смех Ингеборг, тогда я и мог себе представить, до чего красива Ингеборг. «Она всех нас радовала, – говорила она. – Твоего отца тоже, Мальте, в буквальном смысле радовала. Но тогда, когда стало ясно, что она умрет, хотя она казалась лишь немного прихворнувшей, и мы все ходили вокруг и это скрывали, однажды она села в кровати и сказала вслух так, как говорят, когда хотят услышать, как это звучит: “Вам не надо так крепиться из-за меня; мы все это знаем, и я могу вас успокоить: это хорошо, что так будет, я больше не могу”. Представь себе, она сказала: “я больше не могу”; она, которая всех нас радовала. Поймешь ли ты это когда-нибудь, когда вырастешь, Мальте? Подумай об этом, тогда, может быть, тебя осенит. Было бы совсем хорошо, если найдется хоть кто-нибудь, кто понимает такие вещи».
«Такие вещи» занимали maman, когда она была одна, а в эти последние годы она всегда была одна.
«Я-то никогда не додумаюсь до этого, Мальте, – говорила она иногда со своей своеобразно бесстрашной улыбкой, не предназначенной ни для кого лично, и она полностью достигала своей цели, когда так улыбалась. – Но почему никого не прельщает это – нащупать и понять; если бы я была мужчиной, да, именно, если бы я была мужчиной, я бы об этом подумала – в правильной последовательности, по порядку и от самого начала. Поскольку начало все же должно быть, и если за него ухватиться, это всегда уже кое-что. Ах, Мальте, так мы уходим, и мне сдается, что все рассеянны и разбросанны, и заняты, и не очень-то обращают внимание на то, как мы уходим. Как если бы падала звезда, и ее никто не видел, и никто ничего не загадал. Никогда не забывай что-нибудь себе пожелать, Мальте. Желания, от них нельзя отказываться. Я думаю, не бывает никаких исполнений, но бывают желания, которых хватает надолго, на всю жизнь, так что их исполнения просто невозможно дождаться».
Maman велела поставить наверху, в своей комнате, маленький секретер Ингеборг; я часто видел сидящую за ним maman, поскольку мне разрешалось входить к ней в любое время. Мои шаги полностью заглушались ковром, но она чувствовала меня и протягивала мне руку через левое плечо. Рука была совершенно невесома, и я ее целовал, как распятие из слоновой кости, то, что мне по вечерам подставляли перед сном. За этим низким письменным столом с откидной столешницей она и сидела, как за инструментом. «В нем так много солнца», – говорила она, и действительно, внутри казалось необычно светло от старого желтого лака с нарисованными на нем цветами – всегда один красный и один голубой. А там, где рядом стояли три цветка, между ними располагался фиолетовый цветок, разделявший два других. Эти краски и зеленый цвет узкого горизонтального орнамента в виде вьющихся растений потемнели наравне с сияющим фоном, не ставшим, в сущности, светлей. Получилось редкое, приглушенное соотношение тонов, и они находились во взаимных внутренних связях, не выражая их явно.
Maman выдвигала маленькие ящички; все как один пустые.
«Ах, розы», – говорила она и наклонялась немного вперед к неясному запаху внутри, который не весь выветрился. При этом она всегда представляла, что вдруг что-то еще может найтись в каком-то тайном ящике, но о нем пока никто не знает, и он мог бы податься, если только нажать какую-нибудь потайную пружину. «Вдруг он однажды выскочит, ты сам увидишь», – говорила она серьезно и опасливо и начинала спешно выдвигать все ящики подряд. Но те бумаги, что действительно остались в ящиках, она тщательно сложила и спрятала, не читая. «Я все равно бы ничего не поняла, Мальте, это, наверное, для меня трудно». Она уверила себя, что все для нее слишком сложно. «В жизни нет классов для начинающих, всегда самое трудное то, что от тебя требуют». Меня убеждали, что она стала такой лишь после ужасной смерти своей сестры, графини Оллегард Скиль; по рассказам, она сгорела, когда перед балом, возле зеркала с подсвечником намеревалась по-другому приколоть цветы к волосам. Но в последнее время maman казалось, что самое трудное – понять Ингеборг.
И теперь я хочу описать историю так, как ее рассказывала maman, когда я ее просил.
Это было в середине лета, в четверг, после похорон Ингеборг. С площадки на террасе, где пили чай, виделся щипец родовой усыпальницы – между двумя исполинскими вязами. Стол сервировали так, как если бы за ним никогда не оказывалось хотя бы на одну персону больше, и посему мы довольно вальяжно располагались вокруг. Но каждый что-нибудь приносил с собой, книгу или корзинку с работой, так что получалось, что мы даже немного стеснены. Абелона (самая младшая сестра maman) разливала чай, и все были заняты, передавая друг другу то одно, то другое, только твой дедушка, сидя в своем кресле, смотрел в сторону дома. В этот час обычно ждали почту, и в большинстве случаев ее приносила Ингеборг, поскольку она, отдавая распоряжения на кухне, задерживалась дольше всех. За несколько недель ее болезни мы уже достаточно отвыкли от ее появления, поскольку мы знали, что она не может прийти. Но в этот послеполуденный час, Мальте, когда она действительно больше не могла прийти, – она пришла. Может быть, это наша вина; может быть, мы ее позвали. Потому что, помнится, я сидела и как раз напряженно старалась осмыслить, что же, в сущности, теперь изменилось. И вдруг я не смогла сказать – что; я совершенно об этом забыла. Я подняла глаза и увидела, что все повернулись в сторону дома, и не каким-то особенным, бросающимся в глаза образом, а совсем спокойно и буднично в своем ожидании. И тогда (я холодею, Мальте, когда думаю об этом), да простит меня Бог, я уже хотела сказать: «Ну, где же…» Тут Кавалер, как он всегда делал, бросился из-под стола и побежал ей навстречу. Я это видела, Мальте, я это видела. Он побежал ей навстречу, хотя она не появлялась; а для него она появилась. Мы поняли, что он бежит ей навстречу. Дважды он оглядывался на нас, как бы вопрошая. Потом он рванулся к ней, как всегда, Мальте, в точности как всегда, и оказался возле нее; затем он стал прыгать вокруг чего-то, чего там не было, а потом – вверх, к ней, чтобы ее лизнуть, именно так. Мы слышали, как он визжал от радости и как он подскакивал в высоту, многократно, быстро, один прыжок за другим, и действительно могло подуматься, что он закрывает ее от нас своими прыжками. Но вдруг он взмыл, повернулся в воздухе в собственном прыжке, и рухнул на землю со странной неловкостью, и лежал плашмя, и не шевелился. А позади него, из боковой двери дома вышел слуга с письмами. Некоторое время он медлил; ему явно было нелегко подойти, видя выражение наших лиц. Да и твой отец уже дал ему знак переждать. Твой отец, Мальте, не любил животных. Но тут он подошел к собаке, медленно, как мне показалось, и нагнулся над ней. Он что-то сказал слуге, что-то короткое, односложное. Я видела, как слуга резко приблизился, чтобы поднять собаку. Но тут твой отец сам взял Кавалера на руки и пошел с ним, как если бы точно знал куда, в дом.
* * *Однажды, когда рассказ затянулся почти дотемна, я уже было собрался рассказать maman о руке: в эту минуту я это мог бы. Я уже облегченно вздохнул, чтобы начать, но тут мне подумалось, как хорошо я понял слугу, когда он не смог к ним приблизиться, увидев их лица. И побоялся, несмотря на темноту, выражения лица maman, когда она увидит то, что видел я. Поэтому еще раз быстро перевел дух, чтобы создалось впечатление, что ничего другого я и не хотел. Несколько лет спустя, после странной ночи в галерее Урнеклостера, я целыми днями носился с мыслью довериться маленькому Эрику. Но он после нашего ночного разговора совсем от меня закрылся; он избегал меня; думаю, что он меня презирал. И именно поэтому я хотел рассказать ему о руке. И представлял себе, как выиграю в его мнении (и мне этого очень хотелось по какой-то причине), если смогу ему вразумительно объяснить, что в действительности пережил. Но Эрик так ловко от меня увиливал, что до этого не дошло. А вскоре после этого мы уехали. И достаточно странно, что впервые (и, увы, только самому себе) рассказываю о случае, оставшемся теперь далеко в моем детстве.
До чего же был я маленьким, глядя отсюда, если стоял в кресле на коленях, чтобы удобнее дотягиваться до стола, на котором рисовал. Все происходило вечером, зимой, если не ошибаюсь, в городской квартире. Стол стоял в моей комнате между окнами, и в комнате не зажигалось другой лампы, кроме той, что освещала мои листы и книгу мадемуазель; а мадемуазель сидела рядом со мной, слегка откинувшись назад, и читала. Она пребывала далеко, когда читала, я вообще не знаю, пребывала ли она в книге; она могла читать часами, редко перелистывала страницы, и у меня создавалось впечатление, что у нее перед глазами страницы всегда полней, как если бы она умозрительно прибавляла слова, определенные слова, ей весьма нужные, если их там вдруг не оказывалось. Так мне это все представлялось, в то время как я рисовал. Я рисовал медленно, без какого-то определенного намерения и все видел, немного скосив глаза вправо, когда не знал, что буду рисовать дальше; так мне быстрее всего приходило на ум, чего еще недостает. Я рисовал офицеров на лошадях, и они скакали в битву, или уже оказались в ней, а это намного проще, потому что тогда остается лишь приделать дым, чтобы он все окутал. Теперь, правда, maman утверждает, что это возвышались острова, то, что я рисовал; острова с большими деревьями, и замком, и лестницей с цветами по краю, и цветы отражались в воде. Но, скорее всего, это происходило позднее.
Допустим, что в тот вечер я рисовал рыцаря, одиночного, весьма отчетливого рыцаря, на непонятно во что облаченной лошади. Она стала такой цветистой, что мне приходилось часто менять карандаши, но прежде всего бросался в глаза красный, и за него я хватался снова и снова. И вот теперь он снова мне понадобился; вдруг он (я его еще вижу) покатился наискосок по освещенному листу на край и упал, прежде чем я смог его подхватить, пролетел около меня вниз и пропал из виду. Он вправду срочно потребовался, и, конечно, меня сердило, что придется за ним ползти. Неловкий, каким я себя ощущал, я приложил немало усилий, чтобы сползти вниз; мои ноги казались мне слишком длинными, я никак не мог их вытянуть; из-за слишком длительного стояния на коленях мои суставы одеревенели; я не знал, что относится ко мне, а что к креслу. Наконец, несколько сконфуженный, спустился и оказался на звериной шкуре, вытянувшейся под столом до самой стены. Но тут возникло новое затруднение. Приноровленные к свету там, наверху, да еще вдохновленные красками на белой бумаге, мои глаза не могли разглядеть мелочей под столом, где чернота казалась такой плотной, что я боялся на нее натолкнуться. Я положился на мое осязание и на коленях, опершись на левую руку, стал другой, как гребенкой, копаться в прохладном, с высоким ворсом ковре, довольно приятном на ощупь; только, увы, карандаш не находился. Я вообразил, что теряю много времени, и хотел уже позвать мадемуазель и попросить ее подержать лампу, как заметил, что для моих поневоле напряженных глаз темнота становится мало-помалу прозрачней. Я уже мог различить стену со светлым плинтусом понизу; уже ориентировался по ножкам стола; прежде всего опознал мою собственную руку с растопыренными пальцами, руку, что совершенно одиноко, вроде как водяной зверь, тут, внизу, шевелилась и исследовала грунт. Я глядел на нее, как помню, почти с любопытством; мне представилось, как она может делать что-то, чему я ее никогда не учил, как она там внизу самостоятельно шарит, производя движения, каких я у нее никогда не подмечал. Я следил за тем, как она продвигается вперед, мне стало интересно, я был готов к чему угодно. Но разве я мог ожидать, что от стены навстречу моей руке станет приближаться другая рука, покрупней, необычайно худая рука, каких я еще никогда не видел. Она сходным способом что-то искала, приближаясь с другой стороны, и обе руки с растопыренными пальцами слепо двигались одна навстречу другой. Мое любопытство еще далеко не израсходовалось, но внезапно оно исчезло, и остался только ужас. Я чувствовал, что одна из рук принадлежала мне и что она пускается на такое, чего потом уже не исправить. С полным правом, какое на нее имел, я остановил свою руку и потянул ее медленно и плашмя назад, не выпуская при этом из глаз другую руку, которая продолжала искать. Я понял, что она не остановится; не могу сказать, как снова поднялся наверх. Я забился глубоко в кресло; зубы стучали, и кровь так отхлынула от лица, что мне померещилось: у меня в глазах нет никакой синевы. «Мадемуазель», – хотел сказать я и не мог, но она испугалась сама, она отбросила свою книгу и опустилась на колени рядом с креслом; она выкрикивала мое имя; думаю, что она меня даже трясла. Но я пребывал в полном сознании. Я несколько раз сухо сглотнул; и хотел сейчас же обо всем рассказать.
Но как? Я неописуемо напрягался, но ничего не мог выразить так, чтобы кто-нибудь понял. Даже если существовали слова для этого события, то я был слишком мал, чтобы их найти. И внезапно меня охватил страх, что они все же могут, невзирая на мой возраст, вдруг найтись, эти слова, и страшней всего мне казалось то, что их придется сказать. И действительно, испытать то, что случилось под столом, еще раз, по-другому, варьируя, с самого начала; слышать, как сам это передаю, – для этого у меня уже не нашлось сил.
Конечно, это воображение, если теперь утверждаю: уже в то время я чувствовал, что в мою жизнь что-то вошло, прямиком в мою, то, с чем я должен один идти и идти, всегда. Вижу, как лежу в моей маленькой кроватке с решеткой и не сплю, и как-то смутно предвижу, что жизнь будет такая: полна особенных вещей, и они предназначены только для Одного и не позволяют себя высказать. Несомненно, что мало-помалу во мне поднималась грустная и тяжелая гордость. Представлялось, как буду расхаживать, преисполненный сокровенным и молчаливый. Я чувствовал неподдельную симпатию к взрослым, восхищался ими и собирался сказать им, что ими восхищаюсь. И собирался сказать это мадемуазель при следующем удобном случае.
* * *А потом последовала одна из тех болезней, что доказывают: то, что случилось – не первое мое собственное переживание. Лихорадка, надрываясь, копалась во мне и вытаскивала из самой глубины опыты, картины, факты, о которых я не знал; я лежал там, переполненный сам собой, ожидая момента, когда мне будет приказано все это снова уложить в себя слоями, упорядоченно, в последовательности. И я даже подступался, но оно росло у меня под руками, оно сопротивлялось, его оказалось слишком много. Тогда мной овладела ярость, я сваливал в себя все в кучу и прессовал; но – не мог снова закрыться. И тогда я закричал, наполовину открытый, каким оказался, и кричал, и кричал. А когда начал выглядывать из себя, то увидел, что они уже давно стояли вокруг моей кровати и держали меня за руки, и горела свеча, а их большие тени соприкасались позади них, на стене. И мой отец приказывал мне сказать, что со мной. – Приветливый, ненавязчивый, мягкий приказ, но все-таки приказ. И отец становился нетерпеливым, когда я не отвечал.