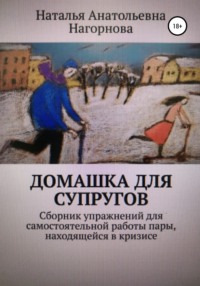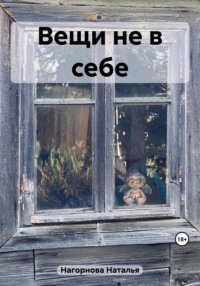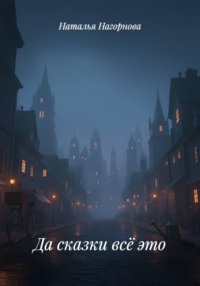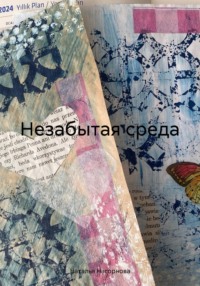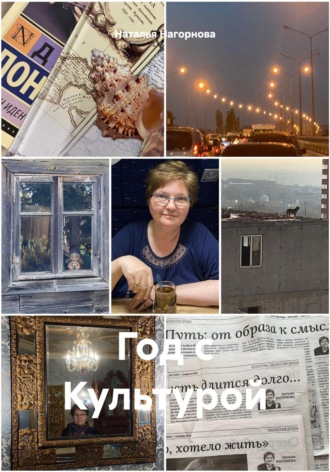
Полная версия
Год с Культурой
Уже несколько месяцев не видела собаку на недостроенном доме напротив, а ведь каждый день по утрам она взбиралась на самый верх. Жива ли? Смотрю вниз на конуру – приносят ли еду? Две миски то ближе к собачьей будке, то дальше, снегом не засыпаны, вокруг вытоптано – значит, приносят. Но тут увидела: слетелись поутру вороны и всё из мисок перетаскали, ещё и отгоняя воробьёв.
А приходящая кормилица – пару раз видела женщину лет сорока – думает, наверное, что собака ест, раз миски опустошаются. Представила: бедолага лежит в конуре, не в силах выползти, и смотрит через лаз, как птицы уплетают её пайку.
Зеркало для героев и не героевПоскольку много сейчас текстов о психологии – на сайтах психологов, специализированных форумах, профессиональных площадках – это нахлынуло на людей потоком. Вроде и хорошо, но одновременно и обесценило такие речи, они стали напоминать проповеди священников, которые без конкретного запроса клиента, попадание пальцем в небо, одно блюдо для всей паствы, кто придёт.
Появление зеркала изменило человека: он смог увидеть себя со спины, сбоку, посмотреть на свои уши, зубы, заглянуть себе в глаза. Люди по-иному стали ухаживать за собой.
Думаю, примерно такого масштаба произошли изменения с человечеством, когда появились писатели, а потом психологи. Под шквал психологической литературы в последние годы выговорены и вынуты на поверхность страхи и сомнения, тайные метания. Если не осознанно про себя, то, читая о подобном у других, попутно развивая душу. Все же теперь знают, что такое незакрытый гештальт, личные границы, быть в потоке, в моменте и т.д.
Но не всякое отражение себя человек способен воспринять, может и окаменеть, как при виде Медузы Горгоны. Сергей Рубинштейн называл чувства при узнавании себя “горечью самопознания”.
Февраль
Пусть длится долгоВ соцсети у Людмилы Петрушевской фотография со встречи по поводу 100-летия правнучки писателя Николая Лескова Татьяны излучает радость – обе нарядны, элегантны, бодры. Пишет: “Разница-то меж нами 16 лет. Я сегодня тоже надела свои танцевальные башмаки, слегка порепетировала чечетку: пора. У меня в Рио будет концерт 10 февраля. А когда я исполняю «Старушку не спеша», то слегка бью чечеточку".
Раньше в интервью она рассказывала:
«Я начала петь, и это, по-моему, для всех людей, жаждущих петь, утешение, в 69 лет. А в 70 начала бить чечётку. Я трудолюбиво полгода ходила на мастер–класс по чечетке. Чечётка – это потрясающая вещь для кровообращения. Вы же знаете: когда человеку плохо, он сильно стучит кулаком по столу или топает ногами, ну или, в крайнем случае, бьется головой об стену. Почему? Потому что кровь тогда начинает нормализоваться в своем давлении, ибо любой стресс затормаживает движение, а это грозит… А когда человек бьет что-то такое, то и кровь начинает циркулировать… Наша планета вращается, космос вращается, мы на планете вращаемся с дикой скоростью, и в нас кровь вращается с дикой скоростью. А когда кровь замедляется, это угроза. Поэтому, когда мы танцуем чечетку, это очень–очень полезно. Потому что это – удары той самой частью нашего организма (трет свои голени – авт.), которая называется «второе сердце», потому что там кровь идет и возвращается. Я ходила в группу чечеточников, а сейчас я просто включаю урок степа в интернете. Единственная сложность – это соседи снизу. И поэтому у меня есть толстая деревянная доска, я кладу ее на подушки и топаю, как хочу, даже ночью. Потому что полчаса топанья ногами – это возвращение в какие-то предыдущие времена. Это настолько здорово! После каждого урока, которые шли у нас тогда по два часа, я все меняла у себя. Потому что, когда пот сходит с человека, он выносит с собой очень много вещей, которые не нужны”.
Что даёт некоторым людям жизнестойкость, ощущение счастья в позднем возрасте? Ведь и у Петрушевской, и у Лесковой были преодоления, обеих жизнь потрепала – чужбиной, опалой, запретами, и каждая достигла высот в искусстве и в профессии.
Еще академик Бехтерев отмечал, что великое счастье – не растерять с возрастом на дорогах жизни разум – будет дано лишь 20% людей. Остальные к старости, увы, “превратятся в злых или наивных маразматиков и станут балластом на плечах собственных внуков и взрослых детей”. И чтобы войти в будущем в счастливую двадцатку, следует стараться. Рецепт от Заболоцкого: "Не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь".
Но с годами начинают лениться практически все – много работают в юности, чтобы не иметь проблем в старости, а получается наоборот: чем больше успокаиваются и расслабляются, тем больший вред себе приносят. Исчезают заботы о хлебе насущном, интеллектуальная работа сводится к разгадыванию кроссвордов. Слабоумие больше грозит тем, кто прожил жизнь, не меняя своих установок. Нужны гибкость, способность быстро менять решения, эмоциональность. Практиковать это и поддерживать следует, учитывая, что в движении задействованы больше ⅔ головного мозга.
Лучшая профилактика – двигательная активность. Плюс изучение нового с последующей отдачей, то есть не просто что-то изучать, а проанализировать и выжимками поделиться с миром – рассказать, написать. С этим проще людям науки и искусства, они по долгу службы напрягают свою память и совершают ежедневную умственную работу.
Виктория Токарева в интервью на вопрос, как она сейчас живёт, ответила: “Сейчас мои счастливые дни состоят из того, что я ничего не делаю. Это такое счастье: ничего не делать, после того, как ты очень долго все время что-то делал. Сейчас кончилось: дети выросли, внуки выросли, правнуки меня не касаются, картошку чистить не надо, ничего не надо – вот так живёшь, и всё. Я вам хочу сказать: не бойтесь старости, ждите её с нетерпением”. При этом глаза у неё весёлые, улыбка радостная, руками размахивает – счастливый свободный человек. “В старости гораздо приятнее жить, чем в первом и во втором возрасте, когда шелуха какая-то отходит, и остаётся… – как жесткий диск в компьютере”.
К своему 85-летию в ноябре 2022 года у Токаревой вышла очередная книга “Внутренний голос”, поэтому вряд ли её жизнь состоит из безделья. Скорее – из занятий, к которым её саму тянет, которые ей самой интересны и приносят радость. Она много читает и говорит, что писатели, авторы этих книг, её собеседники. Это – сплав творчества и общения.
С возрастом обрести новые связи и доверительные отношения сложнее, тем они ценнее. В сериале “И просто так” (продолжение “Секса в большом городе”) героини в свои 53–54 настойчиво ищут новых подруг и рады, когда находят их: “Даже после утраты ты снова будешь смеяться, особенно, если рядом с тобой есть парочка хороших подруг”.
Определяющее значение на модель старения играют ориентиры, впитанные в детстве, например, из сказок. Какие мы помним? Позитивное старение – “Госпожа Метелица”, “Серебряное копытце”, “Старик Хоттабыч”. Негативное старение – “Сказка о золотой рыбке”, “Сказка о золотом петушке”, “Конёк–Горбунок”. Про одиночество в старости – “Снегурочка”, “Каменный цветок”, “Золотой ключик”.
Сейчас уже созданы и описаны модели другого старения – активного, интересного, из которых мне известны проект Дмитрия Яковлева “Возраст счастья”, книга Наты Хаммер “Шанс на счастье”.
Многие отмечают, что с годами ощущение времени меняется – чем дальше, тем оно летит быстрее. Это не субъективное ощущение: японские нейрофизиологи доказали, что нейроны надкраевой извилины теменной доли, которые в мозге отвечают за "отсчет времени", с возрастом "утомляются", начинают отставать от темпа работы других нейронов, и ощущение времени искажается: пожилым людям, с одной стороны, кажется, что время "летит", с другой – они не успевают уложиться в короткие временные отрезки с выполнением определенных действий, потому что думают, что у них еще есть время.
Ученый в области нейронауки и психолингвистики Татьяна Черниговская считает, что два самых главных навыка, которые помогают сохранить ясность ума – изучение иностранных языков и прослушивание любимой музыки. Музыка – очень хороший тренажер для нашей нейронной сети. Мозг должен постоянно и тяжело работать, а не расслабляться, и если он “будет читать идиотские журналы, смотреть глупые сериалы, общаться с дураками, слушать легкую бессмысленную музыку и смотреть тупые фильмы, то не на что жаловаться”. Полезно смотреть серьезное кино, читать трудные книги, постоянно узнавать новое – “Все, что попадает к нам в голову, остается там навсегда. Причем, большая часть информации усваивается неосознанно и без нашего контроля. Мы боимся отравить желудок шавермой, но не боимся замусорить голову». Всё, что приносит ненужные переживания, заставляет скатываться в негатив, поэтому нужно тщательно подбирать и фильтровать круг общения”.
В одном из последних интервью писательница Людмила Улицкая прочитала свое написанное в день интервью (то есть в середине этого января) стихотворение:
“Это время предсмертия может длиться долго,но закончиться сразу, в единый миг.И спадет завеса, и засияют звездытам, где видеть их глаз не привык.И отменится все, к чему мы привыкли:буквы, ноты и сам язык.И опять мир услышит вздохи матери–роженицыи ребёнка призывный крик”.К слову о продуктивности в её почти 80: у писательницы только что вышла новая книга “Моё настоящее имя”.
В письме Владимиру Познеру одна пожилая дама писала:
«Старость это дар. Сегодня я, пожалуй, впервые в жизни стала тем человеком, которым всегда хотела быть. … По мере того как ты стареешь, все легче быть искренним. Ты меньше заботишься о том, что другие думают о тебе. Я больше не сомневаюсь в себе. Я даже заработала право ошибаться. … Старость освободила меня. Мне нравится тот человек, которым я стала."
И еще одна сцена, описанная Юрием Трифоновым в романе “Время и место”:
“… на другой конец скамейки села женщина, держа над собой выцветший, когда-то черный зонт. Женщине было лет семьдесят. Её шея напоминала гусиную, а рука, державшая зонт, была усыпана темно-рыжим старческим пеплом. Антипов посмотрел на старуху, услышав голос: «Вот еще одно лето. И никакой радости». – «Почему же?» – спросил Антипов. После долгого молчания и вздоха, означавшего, что никто не собирался начинать с ним разговор, старуха произнесла: «Потому что человек должен любить. И быть любимым. Все остальное не имеет смысла». Посидев немного, она поднялась и двинулась по аллейке, едва переставляя ноги”.
В годовщину Чёрной речкиВ каком-то старшем классе – восьмой? девятый? – учительница по литературе предложила билеты на спектакль школьного драмкружка где-то на улице Стара–Загора, посвящённый годовщине дуэли Пушкина и Дантеса у Чёрной речки. Мы собирались пойти с одноклассником, который был очень важен для меня. Договорились встретиться на моей автобусной остановке. Он не пришёл. Было морозно, темно и пустынно, лишь пьяный мужик спал на лавке. Я расстроилась, но на спектакль поехала.
Всё в той чужой школе было необычно, по-взрослому, не по-самарски. Спектакль по книге Марины Цветаевой “Мой Пушкин” проходил в столовой, столы были сдвинуты к стенам, плотные ряды занятых стульев закруглялись вокруг центрального пятачка, где и происходило действо.
Читали двое: он и она. Он – учитель литературы и руководитель драмкружка, высокий красавец с лицом Жюльена Сореля из “Красного и чёрного” – воплощения девичьих грёз. Она – ученица старших классов, тоже очень красивая, изящная – как из кино. Её лицо выражало глубокую, отчаянную любовь к учителю, в этом не было сомнений.
Они диалогом читали “Мой Пушкин” Цветаевой. Как разлученные влюбленные. Текст опустился на меня сплошным облаком, распознавала только отрывки фраз: “… это не любовь … любовь: когда скамейка, на скамейке – она, потом приходит он”. На моей мёрзлой скамейке спал пьяный мужик. Эта горечь так сочеталась с любовью Цветаевой к Пушкину и с несчастной любовью ученицы к учителю – было очевидно: она осознаёт невозможность их союза, и с досадой, что в моей школе такой спектакль в столовой никак не мог состояться.
… Потом были взаимные обвинения с тем мальчиком, что он приходил, но меня не было, совсем как “мы оба были, я у аптеки”, и – странное дело: он даже видел пьяного мужика на лавке. Но почему же мы так и не встретились – не успели выяснить, поссорились до нахождения истины.
Валентинов прицелВ конце зимы и начале весны – мужской и женский праздники. Инициируют женщины: кого поздравят на 23 февраля, те в ответ одарят их на 87 марта, алаверды. А если симпатия не совпадёт, можно списать на приличия – не остаться в долгу.
Поэтому Валентинов день так уместен по времени – до начала традиционных: без деления на мужской и женский подбирает дарителей по иному признаку, настраивает прицел к следующей за ним гендерной суматохе.
–
Публикация в “Культуре” “Пусть длится долго” заканчивалась словами: “человек должен любить. И быть любимым. Все остальное не имеет смысла». На Фейсбуке со мной заобщался мужчина:
– Здравствуйте, очаровательная Наталья, огромное спасибо Вам за дружбу.
– Здравствуйте.
– Я ищу даму сердца. Расскажите немного о себе. Отвечу на любые ваши вопросы.
– Я не подхожу для этого, у меня есть любимый муж.
– Простите.
– Ничего страшного. Желаю Вам удачного поиска, Вы всё правильно делаете.
– Спасибо.
Погуглила его по имени и фамилии: на сайте знакомств “Мамба” в его профиле: “Хочу найти женщину из Самары, ради которой я удалю свою анкету”. Как говорится – все возрасты…
Каток и храмНа каток пришли с мужем в самом начале технического перерыва: с 15 до 16 часов машина чистила лёд. Куда деться на час? Рядом храм, пошли в него. А то московские осматривали, а в наших ни разу не были.
Зашли, а там красота и никого. У входа за прилавком служительница мастерила гипсовых ангелочков и отвечала по телефону – записывала на крещение, поясняла. Присмотрелась – это моя подруга по художке. После архитектурного в зрелом возрасте, как и я, пошла на второе высшее, она – в московскую духовную семинарию. Встрече обрадовалась, провела нам экскурсию, рассказала много деталей, что тут откуда, чем ценно.
– Храм расписан одним иконописцем – знаменитым Чашкиным, поэтому он такой гармоничный, целостный. Поначалу было ярковато, но от времени и сгорания свечей чуть поблекло, и контрастность приглушилась, а, может, я привыкла просто.
Храм прекрасный, совершенно не уступает по отделке и вкусу московским, впечатлили высокий купол с росписью, иконы, драгоценные ларцы на пюпитрах.
– Ничего, что мы прямо с катка?
– А какая разница? И на литургию приходи, на исповедь. Можно и сейчас – дать листочек?..
“12 месяцев”“Жизнь одновременно летящая, ползущая и текущая”
– писал поэт.
Случается – в короткий период с убыстренной скоростью происходят все возможные сценарии. Всё, что раньше происходило медленно, эпохально, с долгим вызреванием, теперь прокручивается, как кино на перемотке. Особенно после периода, когда, например, Илья Муромец или, скажем, Емеля 30 лет пролежал на печи. И давай вмещать весь филогенез в части онтогенеза: учимся с колес, по ходу, на коленке.
Кажется, что вышла на зимнюю поляну в лесу, где у костра двенадцать братьев месяцев за пару часов прогоняют все сезоны природы.
“Сквозь шум вьюги слышен бубен Января, рог Февраля, мартовские бубенчики. … В шуме бури все чаще слышны мартовские бубенчики, а потом апрельская свирель. Метель утихает. Становится светло, солнечно. … Солнце светит все ослепительнее. Жужжат пчелы и шмели. Лето в разгаре. Издали слышны гусли Июля. … Удар грома. Ливень. Летят листья. Наступает мгновенная осень. Становится темно. Поднимается невообразимый ураган. Ветер валит деревья, уносит брошенные шубы и шали. … мороз и огонь жгучие – один другого горячее, не всякий вытерпит”.
Если не понят урок, жизнь возвращает на второй год для повторного изучения, а то и вмещает в этот год упущенное тридцатилетие. Гонит экстерном, и после учебки – в бой идут не одни старики.
24.02.2023
Отторжение текстаРаньше удивляло: почему я не могу дочитать какой-либо текст до конца, даже небольшой? После прилежности чтения учебной и профессиональной литературы пришлось научиться бросать читать то, что не нравится. Вот так: нацелюсь прочесть – автор заинтересовал, или тема близкая, но две-три строчки, и чувствую: началось скольжение по диагонали, хвост и вовсе отбрасывается, как у ящерицы. Особенно, когда автор учит, но безграмотность выдает с потрохами неначитанность. А ведь хотела, намеревалась, выделила время.
Но уж если где засосет – по прикреплённым ссылкам перейдёшь, все непонятные упоминания погуглишь и т.д.
Психофизиологи говорят, что в мозге навсегда остается всё, что туда попадало – что прочли, услышали, увидели. А если кажется, что забыли – нет, просто лежит запакованным на дальней полочке, и хороший гипнотизер может это распаковать.
Помнится, Шерлок Холмс сравнивал мозг с чердаком, в котором, если енго захламить, будет непросто найти нужное. Но если держать его в идеальном порядке и не тащить туда лишнее, то необходимое будет всегда под рукой.
Кстати, в проективных тестах при рисовании домов именно чердак при интерпретации связывают с головой, с ментальной сферой.
Жванецкий писал:
“Жизнь коротка. … Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу. Уходить от плохого человека. … Чтобы не отдать этому миг, назначенный для другого”.
О “Сумме векторов”Не литературоведческое. Читательское, психологическое.
Книги, как собеседники: встречаешься, говоришь с ними, оставляя в себе кого-то из авторов –
“Если люди в меня входят, не выходят они из меня.Колобродят, внутри хороводят,сквозь мою немоту гомоня” (Е. Евтушенко).Продолжаешь диалог с ними – размышляешь, соглашаешься или споришь.
Направление мысли – как внутренний вектор. А когда их несколько: свой да плюс чужой – они складываются, как в математике: “при сложении вектор суммы получается суммированием соответствующих координат слагаемых”. Что-то вычитала у писателей, плюс добавила, о чем думала сама – так и складываются векторы в один мой внутренний.
В школе одно время нас заставляли вести читательский дневник, в который надо было записывать название прочитанной книги, её автора и краткое содержание. Сколько раз я сожалела, что не вела его, и вот сейчас с копированием откликнувшихся во мне цитат и кое-где их комментариями завела такой… конспект читаемого. К сожалению: не всего того, что прочитано – многое уже упущено, увы.
Поначалу публиковала на своей странице о прочитанном в хронологическом порядке, но потом сама же и запуталась, искавши кого-то, поэтому позже перетасовала в Гугл–документе по фамилии авторов в алфавитном порядке.
“Сумма векторов” – не содержание прочитанных книг, не анализ или рецензия и даже не отзыв, а: пристрастный отклик читателя с большей или меньшей примесью психолога.
–
“Шанс на счастье”. С автором я знакома онлайн – вместе учились на курсе в школе писательского мастерства. Купила книгу, прочитала, подарила маме. Ей понравилось, она дала почитать своей подруге. И я записала на видео, что та сказала о книге, чтоб из первых уст. Получился не совсем отзыв, а немножечко краткий пересказ, но уж я не подправляла и не перебивала, рада была, что та сразу согласилась поделиться на камеру – смелая какая!
Март
Разговор о пустяках и важном«Поговори со мной о пустяках, о вечности поговори со мной…» – предлагал герой стихотворения Георгия Иванова своей собеседнице. Так о пустяках или о важном? И всегда ли есть возможность поговорить не о пустяках с тем, кто рядом? Конечно, для разговора о главном необходимы соответствующие место, время, собеседник и подходящие взаимоотношения с ним. И плачевно, если твой партнер по жизни – супруг, родитель, ребенок, друг – не становится им ни при каких обстоятельствах.
Конечно, невозможно постоянно говорить из состояния экзистенциального осмысления действительности, ведь в каждый момент происходит просто жизнь – с мелочами, банальностями и обязательствами. Партнёры реагируют на возникающие неизбежные стрессы, уколы и шишки, кто-то быстрее, оперативнее, а кто-то медленнее, и само это подтягивание и уравнивание скорости реагирования на события – своего рода работа, настройка друг на друга, постоянная притирка, иногда не замечаемая. Какое уж тут – говорить о самом глубинном.
Возможен искренний разговор не только в самом узком круге. Недавно в библиотеке была беседа с педагогом и литературоведом Олегом Буранком, мне довелось недолго поработать с ним бок о бок, и это сотрудничество освещено радостью качественного общения. На встрече он просто и искренне рассказывал о своей жизни; о любимой учительнице по литературе: “Мы с ней друг друга очень любили,” – по-моему, это залог будущего успеха: взаимная любовь с любимым учителем; о том, что “читать по-быстрому – это же не понять, не уловить, в сердце не взять”; о том, что “любишь то, что знаешь – писателя, человека, дело”, и что “злее всех пример наш”. После таких встреч ощущаешь наполненность, как после качественного искреннего разговора.
Такое же чувство возникает, когда читаешь подходящую книгу. У меня сейчас такая – “Фабрика прозы” Виктора Драгунского, некоторые литераторы считают его последователем Юрия Трифонова – по описанию быта и нравов современников, которого, в свою очередь – продолжателем Антона Чехова. По удачному совпадению в дни моей недавней поездки в Москву он в соцсети оповестил о своём творческом вечере, и я была рада побывать на встрече писателя с читателями, познакомиться с ним, убедиться в том, что он такой же искренний и доброжелательный, как и его рассказы.
Писательница Людмила Улицкая рассказывала, как в двенадцать лет прочла стихи Пастернака, “и с тех самых пор начались мои взаимоотношения с ним, которые не кончались никогда, я продолжаю его любить”.
Чтение, как взаимоотношения.
Важно, чтобы, общаясь с теми, кто для тебя близок ментально и по духу, хоть и далёк по жизни, говорить и с реально близкими людьми – не только о пустяках, мелочах, о безопасном, но и о главном, крупном, спорном, чтобы не не разошлись незаметно пути-дорожки, и чтобы не обнаружить вдруг в какой-то момент рядом с собой чужого по духу человека.
“Почему так? А потому что бедняга каждый день говорит о пустяках и скрывает все свои мысли о вечном и прекрасном, все желания выше пояса. Он давит в уме главные вопросы, пытаясь как-то выжить в мире и не быть осмеянным и отвергнутым” (Татьяна Москвина, “Жар-книга”).
И может случиться, например, как в повести Юрия Трифонова “Другая жизнь”: супруги самое важное оставляли на потом – после, когда-нибудь, в другой жизни. И когда супруг умер, случилось, как в поговорке: “мы закрываем глаза покойникам, а они нам их открывают”, – прорвалось наружу всё невысказанное, потекли нескончаемые мысленные диалоги, спрашивание, уточнения и проговаривание того, что следовало произнести раньше, чтобы не завихрялись они в бесконечную спираль и отпустили героиню назад, в прежнюю настоящую живую жизнь. Но не всегда есть обратная дорога из “другой жизни” –
“… Ну, потерпим, потрудимся – близко уже:В нашей несуществующей сонной душеВсе уснувшее всхлипнет и с криком проснется!…Вот окончится жизнь – и тогда уж начнется…”(Сергей Юрский, “Всё начнётся потом”).Как уловить момент, когда во внешне успешном диалоге ускользает глубинное понимание, суть сообщений? Ведь если цель разговора, даже очень короткого, не достигнута – ощущаются разочарование, пустота, возникает острая жажда найти того, кто понял бы тебя. Как у того паренька из фильма “Доживем до понедельника”, видимо, постигшего ценность качественного диалога и написавшего: “Счастье – это когда тебя понимают”.
Полное понимание всегда имеет ценностную окраску. А когда собеседники говорят друг другу: “Что ты имеешь ввиду?”, уточняют свои понятия, действительно ли один понял то, что другой хотел сказать – это уже обсуждение не предмета разговора, а самой коммуникации, в этом их способность выйти на более высокий способ общения. Появляется возможность говорить о главном, поделиться с собеседником не просто словами, но и своими мыслями, своей душой. И тогда человеческое общение действительно становится роскошью, как писал Антуан де Сент-Экзюпери.
Как обнаружить, что понимание утрачено, и восстановить его? Проще – через третий объект, когда оба партнера смотрят на происходящее со стороны, обсуждают это и понимают, что они видят разную или одинаковую суть происходящего. Например, при совместном просмотре фильмов. Партнёры могут расходиться в мелочах – в интерпретации поступков героев, в объяснении невидимых логических цепочек сюжета, но если из серии в серию оба смотрят один и тот же сериал, это свидетельствует о том, что по крайней мере и основную интригу они воспринимают одинаково и находятся в едином эмоциональном поле, которое их устраивает.