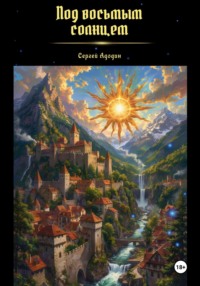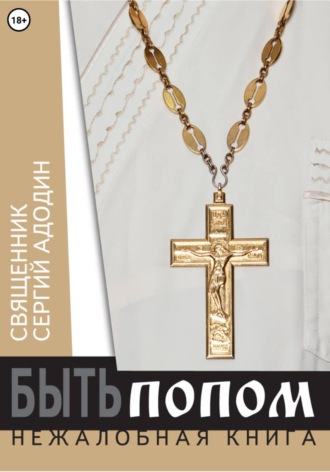
Полная версия
Быть попом. Нежалобная книга
Василий, будучи судмедэкспертом, приехал на вызов вместе со своим шефом. Привычный рутинный вызов обернулся для него небывалым потрясением. Васины руки тряслись. Заикаясь, он попросил шефа, чтоб тот сам производил вскрытие…
Чтобы не разбираться, милиция окрестила происшествие бандитской разборкой, а две городские газеты с готовностью окрестили Артёма бандитом. Между тем как мой друг даже в детской комнате милиции никогда не был и ни разу не привлекался даже к административной ответственности. Это мой друг, и я знал его всю свою жизнь начиная с шести лет. Когда я, прокопьевский поп, примчался на похороны, моё сердце разрывалось на части. Артёмка лежал в гробу посреди зала родительской квартиры, где мы с ним провели в играх и разговорах лучшие дни нашей жизни. Его дорогая мне простреленная голова была забинтована, а его не менее дорогие мне руки покоились связанные бинтом на груди. Я помогал нести гроб, а затем отпевал Артёма в храме Всех святых, куда я в юности ходил молиться, исповедоваться и причащаться, где я посещал занятия воскресной школы.
Это было наихудшее отпевание в моей жизни, могу сказать я вам, братья и сёстры мои. Голос, непослушный, срывался то и дело, а возгласить «Вечную память» я попросил небольшой церковный хор. Проводить друга на кладбище я, к сожалению, не смог, потому что к 17.00 я должен был успеть в Прокопьевск на службу Благовещения Пресвятой Богородицы.
Вскоре моя небольшая ещё семья уехала сажать картошку в Верх-Чебулу, посёлок городского типа, где жили родители моей жены Юлии. Я остался один и смог выплакаться. Обнимая гитару, вглядываясь в ясное звёздное небо, я написал на балконе песню, посвятив её убитому другу:
Мне бы увидеть, как радуга с громом играет, – но слеп я.
Мне бы услышать, как солнце лучи испускает, – но глух я.
К небу взлететь бы, чтоб с ветром умчаться, – но сломаны крылья.
К жизни б вернуться – потерянной, прежней, – но не уходил я.
Руку сожми мою крепче, не уходи —
Меня душит горечь утраты.
Что рассказать тебе о любви
В двух словах – она свята.
Очи тяжелые видят лишь смутные тени – прозреть бы.
Суетны мысли, лукавы и быстры движенья – успеть бы
Вслед за мечтою сорваться в момент вдохновенья – к спасенью.
Птицею – к солнцу, и мигом оставить без лени сомненья.
Руку сожми мою крепче, не уходи —
Меня душит горечь утраты.
Что рассказать тебе о любви
В двух словах – она свята.
Строки наивные, спору нет, но они до сих пор связывают меня с Артёмом. Воспоминания, эта песня и мои недостойные за него молитвы к Богу.
Помяни, Господи, раба Твоего Артемия!
Деньги
Деньги всегда привлекали внимание. В детстве монета, прежде всего, являлась красивым таинственным предметом, ценным самим по себе. А уж юбилейную или выпущенную до 1961 года я считал гордостью коллекции. А ещё на неё можно было купить мороженое, лимонад или урюк. Монетка запросто могла валяться на земле или на полу магазина. И, будучи найденной, украсить уличную прогулку купленным лакомством. Взрослые же добывали деньги своими способами. Зарабатывали их, к примеру. Соответственно, им не приходилось ложиться на траву, чтобы выудить монетку-другую из-под киоска. Те дети, чьи родители зарабатывали много денег, голову себе не забивали, поскольку последние покупали им всё необходимое. Впрочем, и обходимое тоже. В юности носить в кармане подаренную родителями некую денежную сумму стало опасно. Ибо её запросто могли изъять хулиганы или наркоманы.
Потом началась взрослая жизнь. С первой зарплаты. Изменилось отношение к деньгам. Они стали символизировать человеческий труд. Тратить самостоятельно заработанное вдруг стало трудно. Однако самыми привлекательными для меня до сих пор остаются деньги, которые я не смогу потратить, – те, что лежат в нумизматическом альбоме.
Книги
Родители стали запрещать мне читать книги примерно лет с шести. Или с пяти. За провинность, конечно, не просто так. В качестве наказания за плевки из форточки на прохожих и тому подобные деяния. Худшим вариантом расправы надо мной было лишить меня возможности погружаться в сказочные миры на целую неделю. Правда, пока родители были на работе, я находил спрятанные от меня детские книги или выбирал что-нибудь с книжной полки родителей и тайком читал. Главное, вовремя убрать книгу и стереть с лица довольную улыбку.
Когда, выйдя на прогулку во двор, я не обнаруживал там никого из друзей, то шёл прямиком в детскую библиотеку, благо она находилась в одной минуте ходьбы от дома. Случалось, что из читального зала меня выуживал кто-нибудь из родителей, поскольку чувство меры в чтении было мне не очень знакомо.
В общем, чтение всегда много значило для меня, открывая жизнь во всем её увлекательном многообразии. Книга всегда хранит внутри себя отпечаток души писателя, поскольку творчество сходно с вынашиванием, рождением и воспитанием ребенка. Душа каким-то непостижимым образом отпечатывается на страницах. Если читать внимательно, можно узнать об авторе то, чего не знают даже его соседи. Но книга – это не внутренний мир писателя, как принято считать. Скорее, это его око. Вы задумывались когда-нибудь о том, что все мы видим мир по-разному? Все дело в наших глазах. Око – это не просто шаровидное тело, состоящее из трёх оболочек. Это не просто некая оптическая система. Это – анализатор жизни и проекция нашей души. Вспомните евангельское: «Светильник тела есть око; итак, если око твоё будет чисто, то и всё тело твоё будет светло». Так же и с книгой.
Пока я взрослел, мои требования к содержанию переплетённых листов бумаги с текстом тоже взрослели. Хотя, может быть, это просто привередливость. В любом случае, достоверность сюжета имеет до сих пор для меня главное значение. Видите ли, читатель должен поверить в то, что происходит в книге. Я всегда верил Рэю Брэдбери, даже если его герой находился на Марсе или держал в руке косу смерти. Потому что это был живой, настоящий герой. Реальный человек со своей психологией, чья реакция на происходящее вокруг была правдивой, мотивированной, осмысленной. И я мог узнать в персонажах книги знакомых, соседей, самого себя. Но когда у очередного автора персонаж, одетый в джинсы, разгуливает по средневековому, магическому, не технологическому миру, находящемуся на грани гибели из-за тёмных сил, а местная чернь воспринимает его спокойно и не тащит на костер, я закрываю книгу, оскорблённый в лучших чувствах. Потому что неправда. В нашем Средневековье какой-нибудь волшебник в островерхой шляпе не прошел бы и сотни шагов по улице в своем одеянии, пуская весёлые фейерверки из своего посоха. Он разом оказался бы виновен в чуме, войнах и даже гибели быков у местного воеводы. Костёр как развязка сюжета, очевиден.
Художественная книга может быть злая. Если даже сами страницы, кажется, ненавидят своего читателя. Глупая, если автор не разбирается в том, о чём пишет. Плохо, если она неинтересная (зачем она тогда вообще?). А бывает и книга-обман. Тут вообще отдельный разговор. Думаю, это, наверное, самое страшное, что может случиться с читателем.
Книга-обман
Возьму-ка я «Иуду Искариота» Леонида Андреева. Так, на мой взгляд, это хрестоматия обмана. Гимн на тему, как правильно объегорить читателя, пошатнув его дар различения, что такое хорошо, и что такое плохо. Образ главного героя вырисовывается эдаким юродивым, чьи действия – реакция на лживость и безумие мира. А ученики Христовы предстают в довольно неприглядном свете, в то время как автор описывает предателя жертвой обстоятельств. Не успел я оглянуться, перелистывая страницы, как вот уже Иуда – несчастный, обманутый и оболганный душевнобольной человек! И больным его сделало общество. И даже апостолы оказываются трусливыми склочниками и фарисеями. И все-то они ненавидят Иуду и боятся его проницательного ума и честного суждения.
Всё как у нас: стоит человеку преступить закон, как он оказывается вовсе не виноватым в своих злодеяниях. Преступник ни при чём, а виновато общество, его породившее. Живи Иуда сегодня, он уже был бы богат (от проданных книг о нем) и популярен. Предатель не только не стыдится своего преступления – он считает, что не сделал ничего плохого. И вот глядит читатель – Иуду обманывал весь мир, и он имел полное право на предательство. Я бы сказал, что это один из важнейших принципов нашего общества – оправдать преступника с помощью рассуждений о дурном влиянии окружения, трудном детстве и т. д., и т. п. Чувство личной ответственности за свои поступки просто перестаёт существовать, и далее происходит полная потеря человеческого облика и совести. Предатель не виноват: у него плохие родители, плохая семья, плохая судьба – всё плохо, кроме него самого. А сам он всего лишь невинная жертва дурных обстоятельств. Книга учит жалеть и «понимать» преступников.
Но, может быть, автор не виноват? Вдруг всё дело в первоисточнике? Открываю Евангелия. Перечитываю. Но никто не называет Иуду зверем, злодеем, врагом Божиим. Не похожи апостолы на тот образ, что запечатлел Леонид Андреев. Лишь упоминают о предательстве Иудой Иисуса Христа. Без злобы и ненависти. Вообще об Иуде говорится мало, но ненамеренно, так как повествование ведётся о Христе. Об остальных апостолах также сказано немного.
Андреев ведет свое повествование от обычного писательского воображения, свободно играя евангельскими событиями и произвольно меняя их по своему усмотрению. Евангелисту Иоанну известен отец Иуды – Симон Искариот, тогда как Андрееву – нет. И он влагает в уста своего героя сказку о том, что тот не знает своего отца, а мать его – блудница. Раскаялся (сожалел о содеянном, чувствовал свою вину, но не изменился) в содеянном евангельский Иуда, а андреевский Иуда лезет в петлю, уверенный в своей правоте. Сумма, заплаченная за предательство, огромна, ведь на неё была куплена в столице земля под большое кладбище. У Андреева тридцать сребреников – жалкие гроши. И он как будто забывает обо всех чудесах, совершённых Иисусом: бесчисленных исцелениях, изгнаниях злых духов, воскрешениях. Намеренно забыто в книге и то, что поставили Иисусу в вину, – сыновство Богу. И это делает из Иисуса доброго бродягу. А из Иуды, предателя Сына Божьего, – предателя простого человека. Но даже здесь автор оправдывает своего героя-предателя и нисколько не симпатизирует распятому человеку Иисусу.
И вот мой дерзкий вывод: американский (а ведь принято думать почему-то, что американцы – народ приземлённый в отличие от нас) режиссёр Мел Гибсон превзошёл русского писателя Леонида Андреева в гуманизме, когда снял картину «Страсти Христовы». Ведь даже у неверующего в Бога человека при просмотре фильма появится чувство сострадания ко Христу. Но нет этого у Андреева. Он не сострадает Иисусу, описывая Его муки. Но зато сострадает предателю. Вот вам и книга-обман…
Ах, вот ведь ещё что. Чуть не забыл. Самой лучшей книгой считаю ту, которая была написана под редакцией Святого Духа.
Политика
В детстве политика делилась на правильную советскую и на неправильную зарубежную. Всё было крайне просто. А потом постепенно усложнялось. Количество получаемых знаний к чёрному и белому добавило гораздо больше, чем пятьдесят оттенков серого. Оказалось, злые люди могут проводить злую политику из благих побуждений, а добрые, проводя добрую политику, – пользоваться злыми методами. И многое другое. Дальше – больше. Можно вообще не преследовать ни добрых целей, ни злых, занимаясь политикой. Это может быть просто профессией. Средством зарабатывания денег. Затем открылось, что политика не является ни злой, ни доброй. Она бывает лишь в чьих-то интересах. Если в «наших», то вроде как это хорошо. Если в «чужих» – то всяко бывает…
Хорошо вот дворнику золотой осенью. Метёшь себе, метёшь разноцветные листья метлою из орешника, и не приходится хитрить и притворяться радеющим за интересы мирового сообщества. Только за свой двор. Только вот платят мало…
Школа
К ней я относился весьма трепетно, пока был отличником. Но это продлилось недолго, и ко второму классу я резко съехал по успеваемости, получив за год две четвёрки. Поэтому со мной перестала дружить Лена – круглая отличница. Немного попереживав по этому поводу, я вскоре выяснил, что четвёрки не так уж и портят жизнь.
После третьего класса меня перевели в другую школу. Уже и не помню зачем. Вроде бы я был с другого микроучастка. Правда, два моих товарища, с которыми мы совместно прогуливали уроки и любознательно изучали окрестности всего Междуреченска, возвращаясь домой после занятий, продолжали учиться в моей прежней школе. А жили мы все в одном дворе. Путь, который у всех нормальных детей занимал десять минут, мы проделывали часа за два-три. И нас то и дело встречали бабушки Димы и Славы с прутиками. Поочерёдно. Как-то договаривались друг с другом.
Мои же бабушки продолжали жить в Кемерове, откуда родители увезли меня, когда мне было почти шесть. Считалось, что влажный воздух молодого шахтёрского города для бронхиальной астмы лучше, чем сухой, но загазованный кемеровский. Как я выяснил впоследствии, для астматика нет ничего лучше сухого чистого воздуха десятого микрорайона города Прокопьевска. Отсутствие рек, сосновый бор и вершина горы Тырган, обдуваемая ветрами и недосягаемая для угольной пыли, приучают лёгкие и бронхи дышать свободно даже без кортикостероидов и адреномиметиков.
В новой школе я проучился четыре года, познал, что такое тройки и даже двойки. Алгебра с её функциями вселяла в меня панику и полное уныние. Радовал я в основном учителей гуманитарных предметов. А вот математичку, напротив, вгонял в гроб своей никчёмностью. Зато в школе было весело. В том случае, если речь шла о нарушении правил и всяческом хулиганстве. Пугачи, беготня по коридорам, прыжки из окон второго этажа в сугробы – всё это у нас даже за шалость не считалось. Другое дело – заменить после уроков второй смены все целые лампочки в коридоре на разбитые, со скрученными усами. Предварительно выключив свет, конечно. Когда завуч, обнаружив непорядок, включала свет, её поражали гром и синие молнии. Поражали, само собой, не физически, а морально.
– Седьмой «А»! – разносился тогда её возмущённый голос по всей школе. А мы, гнусно хихикая, сидели в это время в соседнем с учительской кабинете, прячась в шкафу за доской.
В девятый класс я ушёл учиться в только что открывшийся лицей. В гуманитарный класс, где оказался единственным мальчишкой, к неудовольствию одних девчонок и безразличию других. Спустя месяц гуманитарный класс по какой-то, ведомой лишь руководству лицея, причине расформировали, и мне пришлось пойти в химико-биологический. Ну не в физико-математический же было идти! Правда, с химией я совсем не дружил, пропустив по болезни в восьмом классе все её основы. И, само собой, оставшиеся годы просидел на этом замечательном предмете пень пнём. Лишь в последнем, одиннадцатом классе я начал понемногу догадываться о происходящем в протонно-электронном мире, посещая репетитора.
Девятый класс пролетел в погоне за знаниями, беготне и умеренном хулиганстве. Весь год я злил классную руководительницу, учительницу биологии. Во-первых, я сильно выпендривался на её уроках (учителем она была, к сожалению, посредственным, зачитывая нам учебник вслух), во-вторых, я проявлял себя бунтарём против системы.
«Какой такой системы?» – думаю я сейчас. Но тогда мне казалось весьма остроумным отказываться от ОПТ (помните такой «предмет»?), апеллируя к самой сути понятия «отработка».
– В школе мы отрабатывали бесплатное образование, – умничал я, пока учительница наверняка мечтала меня придушить (я бы мечтал), – а тут мы за обучение деньги платим. Неужели мы что-то недоплатили и теперь должны отработать долг?
В результате я был единственным из всего класса, кто на общественно полезный труд не ходил, и ничего мне за это не было. До поры до времени, конечно. Экзамен по алгебре я, само собой, завалил, и завуч лицея, а по совместительству муж нашей классной (блестящий биолог, между прочим, его единственный урок во время болезни супруги был захватывающим образчиком педагогики), сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться. Он рисовал мне вместо двойки тройку, а я уходил из лицея.
Итак, за несколько дней до начала учебного года я попытался вернуться в почти родную школу. Но математичка сказала, что это совсем не та жертва, которую она способна принести школьному образованию. И я попал в другую школу, которая находилась в двадцати минутах быстрой ходьбы от дома. Пришлось воспользоваться блатом. Нет, я не имею в виду «болото» на церковнославянском (мир обещает злато, а дарует блато). Речь о том, что когда-то великую ценность в обществе имело знакомство, которое было даже ценнее денег. Сейчас уже не так. А блат был у моих родителей не где попало, а у завхоза той школы. Что было равноценно блату у директора. Не всякий поймёт, но кто помнит те времена, ностальгически вздохнёт.
Первого сентября я пришёл в десятый класс этой замечательной школы номер двадцать три, о которой имею самые тёплые воспоминания. Одноклассники были просто чудо – образец порядочности и взаимовыручки. Учителя не знали, что такое хамство, а кто знал, скрывал, как некогда тамплиеры французское золото. Некоторые, правда, ненавидели презренную скрытность и всякое двоедушие, но этот дёготь измерялся для меня в микролитрах. В цистерне школьного мёда он растворялся без следа.
«Школа общения» – вот как нарекли экспериментальную программу, согласно которой учителя обращались с учениками уважительно, разрешали им во время уроков задавать любые вопросы и, что совсем необычно, интересовались их мнением. Даже с Людмилой Степановной, директором, можно было шутить как во время урока, так и вне его. В пределах разумного, конечно. Два года пролетели как один яркий миг, полный приятных на вкус и привлекательно сервированных знаний. Хулиганство было совсем уж минимальным и принимало безобидные формы. Ну почти безобидные.
– Адодин, Батурин! Почему вчера не остались после уроков вешать гардины?!
– Ну как же, Анна Владимировна, помните, когда Вы говорили, что их нужно повесить, мы с Серёгой спросили, мол, зачем их вешать, давайте забьём?
– Ну помню.
– Ну вот. А Вы ещё немного задумались, посмотрели на них и сказали: «Ну да, давайте забьём». Помните?
– Помню.
– Ну вот мы с Серёгой и забили.
И я с бессовестным выражением лица закивал в подтверждение слов друга:
– Поэтому мы с Пашкой и не пришли.
А розги к тому моменту в школах уже давным-давно отменили…
Так что могу с полной уверенностью засвидетельствовать, что школа – это прекрасная часть детства. Если, конечно, не делать трагедии из того, что ты не медалист.
Динозавры
Ной построил огромный по вместительности ковчег. Неказистый с виду, но зато непотопляемый.
– Да он больше футбольного поля! – говорили одни динозавры.
– Да куда там, – отзывались другие. – Да и откуда бы вам знать, какие бывают футбольные поля, ведь их ещё не придумали!
– А динозаврам вообще говорить не положено! – парировали первые.
Пришло время, и Ной стал приглашать всех внутрь.
– Ещё пара дней, и случится Великий потоп! – уверял он. – Придите и унаследуйте жизнь!
Люди смотрели на всё это и посмеивались:
– Выжил из ума от старости. Потоп какой-то придумал…
Животные, напротив, ничего такого не говорили и молча занимали свои места в ковчеге.
Среди прочих пришли и динозавры. Огляделись, посмотрели друг на друга.
– Подстилки тут откровенно жёсткие, – заметили одни.
– Нам в одних апартаментах с быками и козлами как-то не комильфо, – смущались другие.
– Что за дурацкие правила – во время поездки не есть мяса! Жуйте свои пресные овощи сами! – роптали третьи.
– Вообще-то, конструкция ковчега должна быть куда более конструктивной, – мудро переговаривались четвёртые. – Что за ретроградство – поперечные балки!
– К этому Ною надо бы присмотреться, – осторожничали пятые, – что за резон ему всех спасать? Уж не хочет ли он ободрать нас как липки? И откуда, скажите на милость, у него на поясе эти новенькие песочные часы?
– Думается нам, что всё это не более чем хитрая афёра. И вне ковчега возможно спасение. Не стоит ущемлять свою свободу, – сделали вывод шестые.
– А куда Ной хочет нас завести? Какие гарантии, что с ним говорил именно Бог? С нами тоже говорит Бог, – возвышали глас седьмые, – и ничего о предстоящем Потопе Он нам не сообщал!
Динозавров было много, все они были очень рассудительны. До вечера продолжались прения. Затем, проголосовав, динозавры гордо разошлись. Одни – жевать траву, вторые – строить плоты, третьи – поохотиться на четвёртых. Когда начался Потоп, все они были вне ковчега, и один за другим утонули, каждый в своё время.
После школы
Кем только я не хотел стать в жизни! Космонавтом (пока не узнал о требованиях к здоровью), астрофизиком (тут дружно смеются все мои учителя физики и математики), дипломатом («С ручкой или без ручки?» – смеялись девчонки), переводчиком (смеются лично Уильям Блейк и Поль Элюар), хирургом (поэтому, когда в десятом классе всех нас по понедельникам отправляли в центр профориентации, я выбрал профессию младшей медицинской сестры по уходу за больными), рок-музыкантом (смеюсь сам до сих пор: на гитаре играю кое-как, а вокалом только Градского пугать), оториноларингологом (тут имел место гомерический хохот моей преподавательницы пропедевтики внутренних болезней в присутствии всех моих одногруппников). Вот только стать попом мне в голову не приходило. Поэтому-то я им и стал впоследствии.
Получив школьный аттестат, я отправился с ним в медицинский институт, который уже превращался в академию.
Было страшно, ведь говорили, что туда поступают блатные и дети богатых родителей. Их-то я и увидел у дверей приёмной комиссии. Детей, которые держались за руки родителей. От страха все они показались мне ужасно богатыми и очень блатными.
«Лучше синица в руках», – решил я и отправился поступать в медколледж.
Там на меня строго посмотрели и сообщили, что с двумя тройками в аттестате можно даже и не пытаться к ним поступать, поскольку у них учатся исключительно медалисты. Чаще всего золотые, но иногда удаётся поступить и серебряным. А принимают они только оригинал аттестата.
Я понял, что мои шансы получить хоть какое-то образование стремятся к нулю, подобно бесконечно малой функции.
«Лучше синица в руках и два журавля в небе, чем полное бесптичье», – решил я и, оставив аттестат в медколледже, понёс одну ксерокопию в госуниверситет на биофак, а вторую, скрепя сердце, в медакадемию.
«Гулять так гулять!» – разошёлся я и подал заявления сразу на три факультета: лечебный, педиатрический и медико-профилактический. Боялся я лишь одного экзамена из трёх – химии, где выше тройки мне не светило.
Лечфак. Первый экзамен по биологии у победителя городской олимпиады проблем не вызвал. Вопросы были лёгкими, на каждый из них я, как мне казалось, разразился как минимум докторскими диссертациями и, когда пришёл узнавать результаты, справедливо ожидал фанфар и плачущего от умиления ректора с хлебом и солью. В общем, как вы поняли, к тройке я оказался не готов. Расстроившись, на химию я даже не пошёл.
Медпроф. Осознав, что меня подвела гордыня, перед экзаменом по биологии я медленно нарезал круги вокруг главного корпуса. И молился. Помимо молитвы «Отче наш» я обращался к Богу своими словами и просил Его зачислить меня на этот факультет, если есть на то Его воля. Так вышло, что во время экзамена со мной случилось три беды: очень хотелось в туалет, я был голоден и у меня болела кисть правой руки. А в туалет во время экзамена ходили только правильные абитуриенты.
В результате я как кура лапой троечно накалякал на каждый вопрос по паре строчек и буквально пулей вылетел из аудитории уже через час. Получил пятёрку и понял, что, если не Господь построит дом, всуе трудишася зиждущии. Как выяснилось позже, Бог определил меня поучиться на медпрофе не только для того, чтобы получить массу полезных знаний, но и затем, чтобы жениться.
Больница
Это особенное место. Поэтому я с детства старался не упустить ни одной возможности с пользой провести там время. Пациентом я был противным. Вырывался при любой болезненной манипуляции, прятался от врачей в палате под кроватью, ни за что не пил таблетку, пока не выяснял её название и принцип действия. А ещё я не спал во время сончаса днём и прятался в девчачьей палате после отбоя вечером.
Я знал всё о каждом докторе и каждой медсестре. Каждый закоулок в подвальных переходах больничного комплекса был мне знаком. А поскольку детской библиотеки в больнице не было, приходилось выклянчивать медицинскую литературу в ординаторской и на посту. Сверстники, глядя на меня, крутили пальцем у виска.