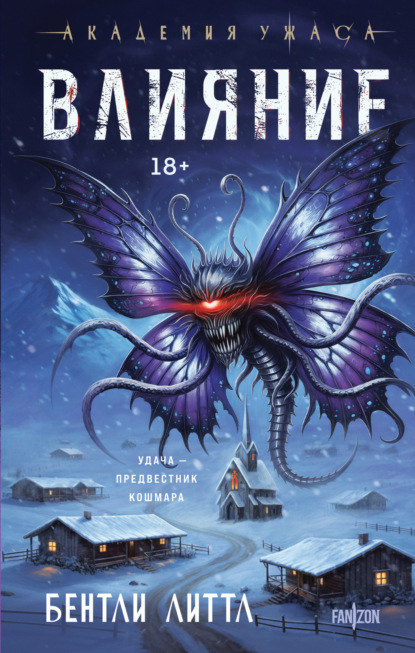Полная версия
На коне бледном

Энди Марино
На коне бледном
Andy Marino
IT RIDES A PALE HORSE
Copyright © 2022 by Andy Marino
Публикуется с разрешения автора и его литературных агентов, Donald Maass Literary Agency (USA) (США) при участии Игоря Корженевского и Агентства Александра Корженевского

© К. Янковская, перевод на русский язык, 2026
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2026
* * *Часть первая
Псалтирь

1
Питер Ларкин идет по вытоптанной на снегу траншее. За спиной, на мерзкой слякоти тротуара, остается дорожка отпечатанных следов. «Считаем от солнцестояния, – думает он, – добавим двенадцать недель – и получим сегодняшнюю дату». Зима еще не ушла с северо-запада страны. По улице проезжает на велосипеде укутанный в теплую одежду ребенок: в покрышках колес поблескивает каменная соль. Следом за ним пробегает женщина – на каждой руке такое количество перчаток, что по размеру они достигли боксерских.
– Доброе утро, Ларк, – окликает она его.
– Именно такое, Джейми-Линн, – откликается Ларк.
Она, вальсируя по насыпи разворошенного снега на обочине, высоко вскидывает колени.
– Видел сегодня Мародера?
– Только что отнес ему половину наготовленного Робертой завтрака.
– Субботние деликатесы.
– Он ел с большим удовольствием. И теперь тоже кладет в кофе четыре кусочка сахара.
Нога Джейми-Линн тонет в сугробе до середины икры, и женщина изящно перепрыгивает на тротуар.
– Стремится заполучить еще один сердечный приступ.
– И разве после этого можно говорить, что он не амбициозен?
– Может, я его еще увижу.
И она спешит за угол: пары от дыхания тянутся за нею по пятам, а сама она исчезает на Маркет-стрит, направляясь к отделению «Скорой помощи» Уоффорд-Фоллс: три гаража, столы для пикника, гриль. И, конечно, светодиодная табличка, напоминающая о необходимости сделать прививку от гриппа.
– Джейми-Линн перешла на утренний ритм жизни? – доносится голос от двери магазина «Пряжа и чаи Клементины».
Ларк оборачивается и видит скрытую в тени наличников огромную неуклюжую фигуру. В полосах света мелькают забитые татуировками предплечья. Вокруг клубится и стелется ароматный дым, и Ларк принюхивается:
– Манго?
– Кокос.
Мужчина выходит из тени. Крепкий, с тщательно подстриженной бородой. У ног вьется полосатая кошка, и при взгляде на нее невольно вспоминается растекающееся пятно арахисового масла.
– Клементина, – говорит Ларк кошке, – ты мелкая проныра. – Подняв глаза, он встречается взглядом с мужчиной – тот на полфута его выше. – Когда ты успел перейти на вейп, Йен?
– Прошлой ночью. Меня просто совесть замучила. – Он кивает в сторону витрины магазина по соседству – там виднеется вывеска магазина вейпов – и понижает голос до заговорщического шепота: – Стоит мне закурить сигарету, и чувак оттуда смотрит на меня такими несчастными глазами, что у меня всякое удовольствие пропадает.
Йен лезет в карман рваных черных джинсов и достает мятую пачку «Кэмел».
– Все, что у меня осталось, я завещаю в пользу никотиновой абстиненции Питера Ларкина.
Ларк берет сигареты.
– Я в долгу не останусь. Насколько я слышал, по утрам, когда Терри забирает девочек, Джейми-Линн работает.
Йен изящно затягивается из вейпа размером с казу[1]. Не глядя приоткрывает дверь за спиной, и Клементина тут же врывается внутрь дома.
– Что ты там тащишь?
Ларк вытаскивает из-под мышки предмет размером с противень и помахивает им перед носом Йена, позволяя его рассмотреть.
– Оловянное. Для чего его использовали – неизвестно.
Йен чуть подается вперед.
– По форме напоминает морского дьявола.
Ларк прячет сигареты в карман своего старого пуховика марки Canada Goose.
– Возможно, это когда-то было частью потолка в аптеке. – Он снова зажимает обрезок жести под мышкой. – Мир тебе, брат.
Кокосовый дым клубится над карнизом.
– И тебе.
Ларк идет дальше по тротуару мимо пустой витрины магазина – за последние полгода здесь несколько раз открывалось и закрывалось заведение, торгующее пончиками. У автоматов из «Золотого абажура» утверждали, что оно использовалось для прикрытия делишек мафии, но, если бы Ларку захотелось бросить свои два цента в копилку болтовни навечно застывших завсегдатаев у игровых автоматов, он бы сказал, что там просто были очень дерьмовые пончики. И все же, несмотря на это, на витрине по-прежнему написано «Лучшие пончики Фредди Би» – в стиле газетного заголовка XIX века. В глубине помещения, в темноте, виднеется расположившаяся на верстаке циркулярная пила. Ларк замирает, чтоб поймать и сохранить в памяти застывшее в окне отражение: затянутую вечными серыми туманами зубастую ЭКГ Катскильских гор венчает нарисованный на окне пончик, посыпанный маком.
В пустом магазине мерцают лампы. Из глубины слышится приглушенная мольба: «Да когда ж ты, на хер, включишься?!» Словно в ответ на нее свет загорается и уже больше не гаснет. Долговязый мужчина, похожий на скульптуру Джакометти[2] – даже руки кажутся прутиками, – отворачивается от выключателя на стене. Ларк ждет. Мужчина притворяется, что не замечает его, подходит к окну, прижимается лбом к стеклу. Ларк стучит костяшками пальцев по букве «Б», но мужчина даже не шевелится. Ларк вытаскивает пачку «Кэмел» из кармана и прикладывает ее к самому центру нарисованного пончика.
Изможденное лицо отодвигается от стекла. Мгновение спустя дверь магазина, где некогда торговали пончиками, со звоном открывается, и изнутри выходит, обхватив себя за плечи, дрожащий от холода мужчина. Из одежды на нем лишь джинсы да майка с логотипом группы Danzig.
– Крупп, ты попросту жалок, – говорит Ларк, – надень пальто.
Крупп выхватывает «Кэмел» из протянутой руки Ларка.
– Гнусный потворщик! – Он разглядывает пачку. – И чем я заслужил это райское наслаждение в виде… – он прищуривается и осторожно заглядывает внутрь пачки, – шести целых и одной сломанной сигарет?
– Они были любезно предоставлены Йеном Дж. Фридрихом.
– Он снова бросил?
– Переключился на вейп.
– Еще один стал жертвой пара! – Крупп втягивает воздух сквозь зубы, сильнее обхватывает себя за плечи и, покачиваясь, переступает с носков на пятку: – Сегодня дико холодно.
– Завтра будет еще холоднее. А вейп помогает бросить курить.
– И это говорит человек, который только что поделился со мной бесплатным куревом!
– Зато теперь ты официально единственный известный мне придурок, по-прежнему курящий настоящие сигареты. Серьезно, бросай курить. Это вредно для здоровья. Проведена куча исследований.
Крупп подносит пачку ко рту и выдыхает облачко пара. Затем, нахмурившись и уставившись вдаль, на виднеющиеся впереди горы, принимается хлопать по карманам забрызганных краской джинсов, полностью погрузившись в свои мысли.
Пока Уэйн Крупп все пытается определить последнее местонахождение зажигалки, взгляд Ларка скользит к вывеске расположенного рядом магазина «Крупп и сыновья: Электроника». Единственным представителем этих самых «и сыновей» как раз и является старинный друг Ларка – Уэйн.
– Как продвигается расширение компании? – спрашивает Ларк.
Так и не зажженная сигарета прыгает на губах. Крупп морщится, словно там, в горах, он только что наткнулся на важную подсказку. Как будто отсюда, с Мейн-стрит Уоффорд-Фоллса, можно выяснить что-то о происходящем в долине. Кусок оловянной пластины выскальзывает у Ларка из-под мышки, тот успевает подхватить его локтем и поднять.
Крупп наконец размыкает губы, сигарета вываливается у него изо рта и приземляется на заблаговременно подставленную ладонь.
– Сегодня должен был все это сносить, но у меня просто нет на это сил. – Крупп поворачивается и кивает в глубь помещения: у выложенной плиткой задней стены, рядом с глубокой раковиной, стоит прислоненная кувалда.
– Я должен сегодня кое-что доставить, – Ларк кладет руку на обнаженное плечо Круппа, – но, если ты подождешь до завтра, я готов зайти к тебе и обменять привилегию разрушить эту стену к чертям собачьим на десяток вкуснейших палочек моцареллы Роберты.
Крупп качает головой:
– Меня беспокоит не то, что надо работать, а кое-что другое. Здесь застыло наше прошлое. Знаешь, что я нашел за прилавком? – Он подходит ближе к окну, стучит по стеклу. Ларк убирает руку. – Одну из тех банок, в которых раньше продавали лакричные конфеты Red Vine.
– Они ведь продавались в магазине конфет?
– Раньше, после школы, мы каждый день тратили на них кучу десятицентовиков. Когда ты в последний раз ел Red Vine?
– Тогда еще Клинтон был президентом. А ты носил эту же майку.
Крупп направляется к двери:
– Зайди и понюхай банку.
Ларк неопределенно машет рукой в сторону своего дома:
– Мне нужно идти.
– Я просто сидел на полу, держал эту банку на коленях и рыдал, Ларк. У меня просто текли слезы. Ты можешь в это поверить? Сперва здесь торговали конфетами, потом открыли мастерскую по ремонту обуви, затем – шляпный магазин, после «Фредди Би». А банка все так там и стояла. Хочешь, я тебе ее отдам? Мы могли бы договориться: неделю она будет у тебя, неделю – у меня. – Крупп выжидающе смотрит на него.
– Хорошая идея. – Ларк изучающе разглядывает лицо Круппа: от ввалившихся глаз приятеля расходятся гусиные лапки морщинок. – Слушай, давай увидимся чуть позже, в «Золотом абажуре».
Крупп кивает на жестянку под мышкой у Ларка:
– Ты у Мародера, что ли, был?
– Купил ему штук пять завтраков.
– Субботние блюда. Мне кажется, Джейми-Линн теперь по утрам работает.
– Я тоже ее видел.
Крупп снова подносит незажженную сигарету к губам.
– Увидимся в «Абажуре».
Колокольчик над дверью звенит, и дверь захлопывается за спиной Круппа.
Ларк сворачивает за угол и направляется по Маркет-стрит на юг, оставив за спиной отделение «Скорой помощи». Из тротуара торчат корни старого почтенного вяза. Торговая улица постепенно сужается, заканчиваясь ветхим зданием с заколоченными окнами. Лишь одно открыто – и рядом с ним тибетский флаг. За этим захваченным бомжами домом виднеется припорошенная снегом низкая кладбищенская стена. Стоящая за нею женщина наклоняется, ставя к побитому непогодой надгробью венок.
– Сегодня ему исполнилось бы восемьдесят семь, – восклицает она.
Ларк делает вид, что собирается снять шляпу:
– С днем рождения, Гарри.
За покрытыми ржавчиной, вечно приоткрытыми воротами вьется тропинка, усаженная по обе стороны вечнозелеными растениями. Постепенно она превращается в посыпанную гравием дорожку. Здесь царит какая-то особенная тишина. Земля под гравием размокла, и ботинки Ларка хлюпают по грязи.
Впереди вырисовывается темный силуэт нависающей над тропинкой, склонившейся над путешественником как гриф-падальщик, статуи, создающей половину хромированной арки, внезапно выводящей к расчищенному в лесу ровному участку площадью с пол-акра. В центре ее расположен скромный дом, а весь двор кажется заросшим травой рвом.
Ларк несет свою находку через весь двор, мимо еще одной диковинной статуи, представляющей собой десятифунтовое соитие проволоки и дерева: оплетенной, оплывшей, пробитой острыми шипами, прошитой ими.
Он подходит к скрытой в маленькой хижине наковальне, кладет оловянную пластину на чугунную поверхность. «Пришло время спасти утиль, – решает он. – Спасти то, что было выброшено, потом починено, а затем выброшено снова». Когда-то эта пластина была вырезана со странной, диковинной точностью – она действительно напоминает морского дьявола, – но сейчас его назначение неизвестно. Он выбирает на полке инструмент, которым можно обработать этот кусок металла, – кувалда больше похожа на акулу, чем на молоток, но она прекрасно подходит для того, чтоб получше отбить оловянную штуковину, – и принимается наносить удар за ударом. Наковальня звенит, поглощая энергию, направляя ее в металл.
И вот жестянка утратила всякую похожесть на морского дьявола. Ларк направляется к студии, расположенной на заднем дворе. До этого он работал с материалом. Дальше его ждет объединение. А между этими двумя пунктами ему нужно будет очистить разум, избавиться от всех ассоциаций – и тогда кусок металла станет тем, чем и должен быть: станет частью целого, которому еще только предстоит превратиться во что бы то ни было.
Он подносит пластину к самому краю выпуклой пластиковой амебы, состоящей из наполовину расплавленных колпаков с колес. Раздумывает.
В глубине студии расположена настежь распахнутая гаражная дверь, и из-за нее льются низкие, нестройные ноты классической музыки. Шостакович.
Ларк вспоминает о легендарном русском композиторе: во время блокады Ленинграда, в 1943 году, тот был вынужден есть вареные кожаные ботинки. У ворот города стояли немцы, жители разделывали на мясо павших лошадей, а гений в пальто, надетом поверх трех свитеров, выдыхая пар, играл на промерзшем рояле. Неужели так все и происходило? Ларк шевелит пальцами в толстых сухих носках, поднимает пластину все выше и выше, скользя вверх по серой лаве оплывших колпаков, и, прищуриваясь, разглядывает получившееся.
На земном шаре есть такие места, где зимы долины Гудзона покажутся летом на коралловых островах Флориды-Кис.
Мертвые лошади. Вареные кожаные ботинки.
Чем эта пластина никогда не станет, так это лицом. Ларк направляется внутрь дома, разыскивать железнодорожную шпалу.
2
Ларк оставляет мокрые ботинки на резиновом коврике и в одних носках спускается в подвал. Длинный коридор освещен миниатюрными точечными светильниками, свисающими с потолка на длинных ножках. На стенах ряды картин – и этот свет создает видимость галереи. Землистый запах растворителя, глубокий арахисовый аромат закрепителя, стерильные завитки запахов масляных красок струятся по коридору. За первой дверью, как и за второй, – пустые, стерильные комнаты. Все больше выхваченных из темноты точками света картин. Для полной иллюзии посещения музея не хватает лишь неразговорчивого охранника в углу, датчиков отслеживания влажности на стене и хихикающих детей, пришедших на экскурсии.
Третья дверь закрыта. Ларк изучает свое лицо в висящем у входа маленьком квадратном зеркале. В свои тридцать шесть он напоминает хищную птицу с добрыми глазами – так ему, по крайней мере, хотелось бы думать, – ну, или хищника, ставшего травоядным.
Целую минуту он размышляет, на кого же похож: это плата за то, что ему разрешат войти внутрь. Впрочем, от него не требуется прийти к какому-нибудь окончательному выводу. Все, о чем просит его сестра, – это чтобы человек, входящий в ее студию, немного успокоился, остудил свои эмоции, которые могли помешать ее работе.
Из-за двери доносится ровный ритмичный стук. Упругие прыжки мяча-попрыгунчика помогают разуму сестры отключиться от реальности так же, как сам Ларк отключается в своей студии. Он представляет, как сестра перетекает из одной позы в другую, пальцы шевелятся как лапки насекомых, и Бетси застывает, созерцая новую деталь на картине.
Ларк стучит.
– Бетси! – зовет он, вглядываясь в зеркало, изучая, как меняется мимика при произношении ее имени, как странно отвисает на последнем слоге нижняя губа. – Я скоро ухожу, у тебя все в порядке?
Мяч вновь мягко стучит об пол и замолкает. Ларк представляет, как он, совершив эпический прыжок, розово-меловой точкой застревает в небесном своде.
Босые ноги шлепают по твердой древесине – так, едва слышно, могла бы ступать мышь. Дверь распахивается, и на пороге появляется Бетси Ларкин: волосы растрепаны, глаза прячутся за очками с толстенными, с шахматную клетку, линзами. Из беспроводного динамика, висящего у самого потолка, рядом с окном, на котором рукой Бетси нарисована тонкая спираль, гремит винтажный хип-хоп. Художница протягивает брату завернутый в подарочную бумагу пакет размером с обувную коробку. На упаковке нарисованы ухмыляющиеся эльфы – похоже, эта бумага осталась после праздника. Вот только Бетси раскрасила их глаза в красный цвет. Из упаковки свисают белые ленты.
– С днем рождения. – В ее голосе звучит заметная хрипотца, она явно не спала всю ночь.
– Господи Иисусе… – Ларк изучает ее впавшие глаза, отмечает, как высохла кожа в уголках потрескавшихся губ. – Дерьмово выглядишь, Бетси.
– Я-то высплюсь, а ты так и останешься уродом.
– Черчилль?
– Чуть перефразированный.
Ларк принимает подарок.
– Мы же договорились: в этом году никаких подарков. – Он невольно взвешивает коробку в руке: легкая, как будто там ватные шарики. Изнутри не доносится ни звука. – Если коробка пуста и я просто должен извлечь из этого урок о вреде потребительского отношения к жизни, я буду зол, что мне пришлось потратить уйму сил на то, чтобы ее открыть.
На лице сестры появляется кривая улыбка:
– Обычно люди, когда им дарят подарки, говорят спасибо.
Он чуть склоняет голову, заглядывая ей за плечо:
– Как продвигается работа над Эдвардом Хоппером*?
Бетси отходит в сторону, позволяя ему получше рассмотреть картину. Ларкины обычно не показывают друг другу неоконченные произведения. Но сейчас он заплатил за вход и может свободно бродить по студии сестры. Для начала он прямо от входа осматривает огромное полотно, стоящее на центральном мольберте студии.
– «Полуночники в закусочной», – задумчиво тянет Ларк. Он немного удивлен, что сестра выбрала именно эту картину: обычно она предпочитает что-то менее затертое, такое, что уж вряд ли будет растиражировано и напечатано чуть ли не на занавесках в ванной.
– Картина называется просто «Полуночники», – замечает Бетси.
И в самом деле, это та самая жуткая картина Хоппера, изображающая четыре нуаровых фигуры, застывших в большом окне вымышленной закусочной. Что-то жуткое видится в пустой улице за нарисованным окном, что-то такое, отчего перехватывает дыхание. Все это выглядит лишь декорацией, фоновым изображением в кино. А теперь Ларку и вовсе кажется, что он наблюдает через стекло за каким-то экспонатом, словно стоит в инопланетном музее перед диорамой, изображающей человечество середины прошлого века. Он судорожно пытается понять существ на картине, представить, какова обстановка вокруг. Изображение весьма условно: закусочная, окно, улица – манекены расставлены, сцена закончена и совершенно искусственна.
Вот официант в безупречно белой одежде, вот три посетителя (фетровая шляпа, фетровая шляпа, красное платье). Подделка Бетси безупречна вплоть до повторения малейших мазков. Создавая свою картину, она не пытается просто воспроизвести изображение, она разыскивает масло, которое Хоппер использовал в сороковых годах, имитирует его стиль, процесс создания картин. (Чуть позже Ларк осознает весь контраст событий 1942 года: в то время, когда Хоппер рисовал своих «Полуночников», удобно расположившись в студии на Вашингтон-сквер, Шостакович сочинял свою симфонию, сидя за промерзшим пианино, когда на улицах немецкие снайперы расстреливали погибающих от голода ленинградцев.) И, насколько Ларк знает свою сестру, сейчас она наверняка даже питается так же, как Хоппер, когда писал эту картину.
Он содрогается при воспоминании, как она жила, повторяя Джексона Поллока*: как она бесконечно пьянствовала, и Ларка просто трясло от ярости, когда она, что-то невнятно бормоча, шаталась и обсыкивалась.
Ларк проходит в студию, выискивая, в чем же заключается искажение на картине. Вокруг разбросано все то, чем сестра пользовалась, работая над изображением: стопки книг по Хопперу, палитры, на которых методом проб и ошибок подбирались цвета, которые, стоило им не подойти, безжалостно отбрасывались в сторону. На одно лишь смешивание и подбор ушли недели: Бетси всегда была терпеливой. Ее студия – полная противоположность тому простору, где работает он. Скульптуры Ларка рождаются снаружи, среди норд-остов, ливней и шквалистых ветров, пришедших с Арктики. Здесь же, в полностью защищенном и герметичном помещении, все служит единой цели, близкой к одержимости.
И чтобы разглядеть, в чем же заключается искажение на холсте – то самое, которое могла сделать лишь Бетси, ему приходится подойти вплотную к рисунку. В мире существует всего лишь горстка умельцев, умеющих подделать картину столь же искусно, как его сестра. На поколение рождается один или два талантливых человека, способных выдать свою картину за творение старинных мастеров. Каждый из них, для того чтобы одурачить ученых, посвятивших свою жизнь изучению творчества конкретного художника, будет пытаться причудливо сплести меж собой технику и материал эпохи Возрождения. И все равно их умения будут просты и заурядны по сравненю со способностями Бетси Ларкин.
И что у нас тут не так?
Ларк и сам пока не знает. Сейчас это можно лишь почувствовать, как в детстве, когда смотришь на актинидию и узнаешь в ней виденное во сне и способное ужалить лицо.
Проклятье, Бетси, – пытается произнести он, но получается лишь слабо вздохнуть. Свет на картине нарисован столь достоверно, что у него перехватывает горло. Мир внутри холста словно покрыт перламутровым налетом, дымкой льняного рассвета, многие месяцы подряд разгоравшегося над Уоффорд-Фоллс. На миг на него накатывает ощущение, что он только что проснулся. Но самое худшее в этом ощущении, что оно возникает, когда он всматривается в предмет, который держит женщина в красном платье. Ларк разглядывает вещь, зажатую меж тонких пальцев. Возможно, в оригинале это был коробок спичек. И бледность этого предмета наводит на мысли о чем-то призрачном. Вот именно этот предмет и есть то самое искажение, что создала Бетси, превратив простенький спичечный коробок во что-то болезненно принуждающее. И этот предмет, который не должен быть в фокусе, становится фокусной точкой. Он парализует тебя, как может парализовать ни на что не похожая вещь. Фигуры на картине (в закусочной) либо причастны к этой странности, либо старательно пытаются игнорировать ее существование.
Что это? Он хочет произнести это вслух, подавшись вперед и почти прижавшись лицом к изображению. Слова застревают в горле. Кажется, что женщина в красном платье просто подняла эту странную вещицу с земли, прежде чем войти в закусочную. Убрала с безупречно чистого тротуара – на котором нет ни вмятин, ни пятен старой жвачки – небрежно брошенный кем-то мусор. И этот мусор похож на что-то… живое, решает он. Точно: по скорлупе проходит тонкая трещина, из которой пророс волокнистый стебель.
По скорлупе?
Чем дольше он смотрит, тем больше видит. Это просто удивительно, как сестра смогла в таком мелком фрагменте изобразить столь много. Кажется, что фигуры застыли за миг до того, как решат прокомментировать, что же именно женщина держит в руке. Или, может, думает Ларк, они вообще ничего не скажут, и этот странный предмет, никем не замеченный, продолжит изменяться, и в закусочной все будет идти своим чередом, до самой ночи, буднично и тихо, а с руки женщины, лениво опершейся на локоть, будет медленно сочиться новая грязная реальность. Потому что этот странный предмет, который она держит, совершенно неправильный, не такой, как его изобразила Бетси.
Он вдруг абсолютно уверенно, так, как не был уверен никогда в жизни, понимает, что внутри этого предмета таится множество зубов. Множество мелких комочков молочных зубов. Мужчина рядом с женщиной смотрит прямо перед собой. Никто не пересекается ни с кем взглядом.
Перед глазами Ларка вдруг снова всплывает воспоминание о проваренной кожаной обуви. О гниющих на снегу трупах лошадей.
К горлу подкатывает желчь. Желудок словно выворачивает. В углу звонко гремит тарелка ударной установки. На лбу и спине выступает пот. Холст искажается.
Ларк, прикрыв ладонью рот, отворачивается от картины, прижимая к мокрой груди коробку с подарком.
– Картина еще не закончена, – говорит Бетси.
К Ларку возвращается понимание, что он в подвальной студии, стоит ждет, пока пройдет тошнота. И, подчиняясь воле художника, подобно фигурам на картине, старается не думать, что там держит в руке женщина в красном, отворачивается от всего, замирает, уставившись в пустую стену.
Неведение.
Блаженство.
– Что? – откликается он, наконец приходя в себя.
Бетси, скрестив руки на груди, прислоняется к дверному косяку и зевает.
Ларк направляется прочь по коридору, к лестнице.
– В холодильнике есть чем пообедать, – бросает он через плечо (собственно, он и спустился лишь для того, чтобы это сообщить). – Мясная нарезка и маринованные огурцы. Обязательно съешь что-нибудь.