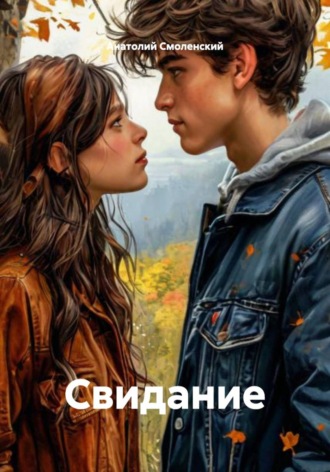
Полная версия
Свидание

Анатолий Смоленский
Свидание
СВИДАНИЕ
Юные рецидивисты или невинные шалуны.
Освобождаясь от школьных занятий, мы с Николсом обычно бродим по «Бродвею». Нет, не перемещаемся в Нью-Йорк, к примеру, в уютный Таймс Сквер, окруженный небоскребами сплошь стеклянными, словно ледяными, иными многоцветными высотными зданиями, тесно стоящими, чуть ли не выталкивающими друг друга на мостовую, соревнуясь в величественности, монументальности, блеске, изысканности, вдохновляющие на новые возможности. А внизу здания обзавелись мраморными подъездами отелей, стеклянными витринами кафе, магазинов, с массой вещей, обладать которыми райское наслаждение. И тут и там прочая богатая мишура и пустяки в виде всевозможных реклам, с размещением на них женских лиц, силуэтов грации, мечтательно-красивых; мужских образов, отчаянно лелеемых женским воображением. Все это приводило бы к истероидному позыву иметь все и всех. Нам чужда такая распущенность: для воспарения духа не нужен приземляющий балласт материальных желаний и искушений.
Отнюдь, наша улица объединена не со столь широкой дорогой, подобной бродвейской в оригинале. Здания наши, окружающие местное шоссе, малоэтажные, порою с обсыпавшимися углами, из которых торчит дранка, в лучшем случае красный кирпич, разъеденный ветром и непогодой. Но они стоят, терпят свой возраст и беспечность проживающих в них граждан. Здесь мало предлагается услуг для проходящего люда: перекусить на свежем воздухе решительно никто не предлагает, развалиться на функциональном креслице подле гостеприимного столика с напитками не получится – их нет в ассортименте предложений, как нет и самого ассортимента. Уличные музыканты и оживающие статуи не украшают собою мостовые и не услаждают искушенный слух. Глаз, окрыленный жаждой впечатлений, жаждет удивительных красот бесчисленных архитектурных изысков и не находит их, лишь упирается в однообразные коробки домов, скучно выкрашенные «охряной» краской либо розовой (туманная роза), но непременно с сероватыми дождевыми потеками. Великолепное пешеходное покрытие, кажущееся мягким нестираемым, расчерченное в приятный хаотичный геометрический рисунок не досталось нашей улице. Вместо него мы имеем бугристое заплатанное асфальтовое покрытие, испещренное климатическими трещинами, подрытое вездесущими корнями деревьев, а то и его временно-постоянное отсутствие, бордюры, конечно, стремятся к самостоятельности и каждый выбирает свой угол наклона. Все здесь норовит к хаотичности, самодостаточности, не прилизано, не приглажено, но это же весело!
Облюбованная нами улица озеленена с обеих сторон автомобильной дороги раскидистыми деревьями, исполинскими сталинскими тополями, сбрасывающими ежегодно пух, формирующийся в небольшие, непрерывные «сугробики», отнюдь не радующие собою трудовое население. Но пуховые «снеговые наносы» прекрасно воспламеняются и горят от наших спичек как бикфордов шнур, устремляя свой скорый огонек вдаль, по палисадникам и по дворам так, что не успеваешь охватить взором этот феерический бег, и где-нибудь, наверное, умирает или будет затоптан какими-то паникёрами.
Конечно же, любой скажет, предпочтительнее было бы лицезреть вокруг себя деревья абрикосовые, инжир, не помешали бы кое-где апельсиновые рассадить (ладно не надо магнолий, хотя кустарниковые, почему нет?), это было бы гораздо живописнее и для здоровья полезнее (под плодоносящей кроной можно было бы перекусить на скорую руку или наполнить ведерки фруктами для консервации), но как-то не торопятся они у нас произрастать, и, стало быть, ландшафтные дизайнеры напрасно жуют свою еду. Зато изредка встречаются цветущие весной липы, в прилегающих скверах и, разворачивающемся в конце улицы парке, (весьма смутно напоминающем Таймс Сквер) старые клены, устраивающие в знойное лето спасительную тень и наполняющие ароматом все в округе, а осенью бахвалятся, между собою, изысками цветовой палитры. Густые кустарники акации и поросли сирени вкупе создавали интимные условия для сокрытия влюбленных и прикрытия хулиганствующих поползновений.
Шеренга из доставшихся на нашу долю деревьев с нестриженной кроной, едва прикрывала пешеходов от редких автомобилей и почти полностью закрывала вторую половину улицы, по которой мы иногда возвращались, разнообразя прогулку, встречая своих девчонок, предпочитающих, по неизвестным причинам (каждый имеет свою орбиту), прохаживаться по другой стороне дороги. Эта улица всегда была умеренно наполнена хулиганствующей молодежью. Жителям окрестных домов на первых этажах порою было рискованно открывать форточку в вечернее время, поскольку могло что-то прилететь дурно пахнущее или тлеющее едким дымком, приносящее мало радости жильцам, а жизнь малолетних мерзавцев от безобразных проделок наполнялась романтическим смыслом и незабываемыми воспоминаниями, отражающимися в наглых улыбках на страхолюдных физиономиях.
Эта улица многое значила для нас: там появлялись озарения, рождались и умирали идеалы. Ходили по ней всякий день, будто творили обход крестным ходом в православный праздник (порою хоругви заменял орущий приемник на плече), осененные духовными чувствами, попутно разбираясь с обыденными проблемами. И, бывало, мирный гомон переходил в разнузданные шалости, которые иной раз заканчивались трагикомично, в то время как один торжествует, а другой задыхается от бессильной ярости, при этом никто не погибал и не травмировался – все происходило в теории. Случалось, к нам присоединялись Петруччо и Генрих, если пересекались интересы и тогда градус эмоций переполнялся: споры и глумливые характеристики, не переполненные добродетельными пожеланиями и светскими выражениями, перебегали с одного на другого как пинг-понг на столе.
Изо дня в день мы мерили шагами старый асфальт, испещренный трещинами словно морщинами на лице древнего и мудрого старика, временами он напоминал рябь морскую, но натруженные стопы ловко преодолевали все эти безалаберно-природные барьеры. Наш путь мог бы оказаться и лунным грунтом, прерываемым глубокими кратерами с безвоздушным пространством, а мы бы этого и не заметили, шуршали бы подошвами, не видя ни окружающего мира, ни обступающего вокруг нас скудного ландшафта. Существовали только мысли, перемещающие сознание, казалось, вместе с телом в другие воображаемые дали. Иногда мы, не сговариваясь, недолго хранили молчание, обдумывая с чего лучше начать очередную тему, чтобы не зряшной казалась ее идея и сыграть на нервах друг друга, так чтобы вытянуть по ниточке мысли, не свойственные для привычного обихода. Для этого приходилось перемолоть привычные шаблоны, которыми напичкала нас с детства повседневность и выжать из них новую суть.
Но зачастую все было проще, тема прорывалась как перезрелый нарыв, как фонтан с кричащей мелодией еще на этапе перепрыгивания ступенек школьной лестницы, переполненной спешащими, вымученными школярами. Это могло обозначать, что волей препода, доведенного до белого каления разыгранной тупостью ученика, было произнесено пафосное прочувствованное слово, ставящее крест на попытках неразумной особи своего дальнейшего развития, его бесповоротной обреченности, а также ненужности дальнейшего жалкого полуживотного существования. «Тупоголовый» обычно был нашим героем и на перемене его дружески-поощрительно похлопывали по бокам за театрализованное представление. Но, бывало, и пинком угощали по штанам сзади благодарные, ликующие подельники-ученички, если перегибал палку. Тем самым, была получена горяченькая пища для неокрепших головенок, из которых вмиг вываливались формулы, уравнения, литературные выражения, уступая место шкодливым проискам непокорно-уличного самовыражения. Бог весть откуда берется жажда к противоречию всем и всему, поскольку этому никто не обучает. Наверное, она рождается как буфер самосохранения личности от напора усердно обучающих педагогов и педагогствующих родителей, как защита от посягательства на проклевывающуюся личность воспитуемого, ничтоже сумнящегося в своей даровитости и исключительности.
«Бродвей» слышал и понимал в подробностях то, что было и додумывал то, чего не было, но могло бы статься. Наша вольная болтливость подобна лаю и взвизгиванию щенков-подростков оглашала окрестности с неукротимой энергией. Это нельзя было остановить иначе было бы все другим, и эмоции, которые надо пережить и выплеснуть остались бы внутри запертые в неволе. Мы были выдумщиками, и подобно девице в предчувствии непременно счастливой любви, также и мы находились в ожидании неизвестной жизни, с жадностью вглядываясь в даль, стояли в преддверии захватывающих приключений. Мозг развивался и требовал пищи, хотелось все узнать, начиная с изнанки, распотрошить до основания и переиначить все услышанное, либо высмеять, если суть вещей не поддается пониманию.
Дома у меня были книги русских классиков. Читал Тургенева, Лескова, то, что досталось. Все сознание трепетало от романтичных, чистых и поэтичных образов героев, созданных воображением авторов, невинных отношений персонажей, и тонко чувствующих подвижное дуновение легко преходящих женских мыслей, живое описание природы, реально перемещающее в лето с его божественно-природными звуками, свежими и терпкими запахами. Все это открывало другой, неизведанный мир чувств, стремилось перекроить все мое восприятие обыденной жизни, ранее представленное моим глазам и вложенное в уши прозаической повседневностью.
Там, на страницах, было все интересней, живее и гармоничней. Тогда как улица и школа не спешили окружить меня лирическими образами и благочестивыми помыслами. Отнюдь, буквальный смысл происходящего словно в кривом зеркале лепил мне совершенно другую действительность. И я, еще не остывший от литературных фантазий, идущий в обнимку с художественными наваждениями, способный восторгаться всему доброму, пленительному, торжественному, а затем погрузиться в негу благородных мыслей и поступков в «школьной гармонии» мною воображаемой предполагал: сейчас зайду, открою рот, и молвится из него дивное, благородное слово, и девочки вдохнут восхищенно вольный воздух в свои трепетные груди и выдохнут облегченно со словами «ну наконец-то появился наш герой», не то что эти болваны с кривыми рожами от ехидных ухмылок. Мне мнилось, что девочки созданы какими-то особенными способами и в этих божественных созданиях лишь чистота, тонкое устройство, благочестие и, конечно, безусловная непогрешимость. В дальнейшем, когда-то потом я разобрался, что воображаемое иногда расходится с действительностью.
На самом деле, увы, все складывалось не так, как мне грезилось, и творилась пером вдохновенная фееричность великими классиками. И тогда происходил разрыв, между тем как ожидалось и как всё случалось?
Переступив порог класса, я будто покинул уютный и безопасный кокон духовной гармонии. Все чувства и переживания прекрасных образов, воспринятых мною от гениальных литераторов, вдруг исчезли, оставив меня обнаженным дитем перед, как мне казалось, чуждой стихией, внезапно разворачивающейся предо мною: бестолковым шумом, бессмысленной возней, первобытным гиканьем и похрюкиванием голосов одноклассников. Тут же вынырнул Петруччо как подловато-вороватый кот из-под ветхого крыльца и остановился поблизости, нацелившись на меня, усиленным очками ехидно-обрадованным взором:
– Слон, ты снова спишь с открытыми глазами, разве что не всхрапываешь, и опять напыщенный словно гусак на именинах, не подозревающий того, что он уже изжаренный и его сейчас будут кушать. Или снова приснилось неземное, или не вышел из образа изнеженного маменькой барчука? Щас тебе будут бить поклоны в пол холопы с дырявыми портами на задах, мять потные картузы, сорванные с голов, а улыбающиеся краснощекие крепостные девки начнут кормить сладкими кушаньями и приговаривать «милости просим, барин»! – при последних словах его физиономия расплылась в деланной добродушно-сладостной улыбке, головенка крутилась по сторонам, призывая взглядом сочувствующих на безобразный пир высмеивания. Краем глаза ловлю, как подбираются голодные до насмешек людишки, по сути дружки, а в моменте пересмешники, готовые поступиться святым ради веселого ржания, и девчонки за партами пригнулись в ожидании разворачивающихся событий.
Мгновенно все перевернулось на ноги или на голову, не суть. Перед моим сознанием вплотную встала обыденность, мир обрел другие тональности и значения. Быстренько пришлось осознавать, что я ступил не в светское интеллектуальное и благовоспитанное общество, и мой приход не объявит лакей в дворцовой ливрее с приличествующим титулу почтением и заслуженным регалиям. Здесь может быть ты и друг, но ежели ослабел, то тут же станешь добычей. Может быть, тебе окажут уважение, однако если у тебя достает сноровки отбить удар. Может быть, на тебе остановит взгляд симпатичная и популярная девчонка, но в том случае если ты парируешь мусорный вопрос зловредного Петруччо и сохранишь невозмутимый, бодрый вид. Он давно заприметил странности в моем поведении, появление новых слов и понятий в разговоре, это его удивляло. Но, если он заметил, значит заметили и другие, и вектор внимания, особенно девчонок, мог отвернуться от него и направиться в другую сторону, в мою, предположим. Этого нельзя было допустить малому с амбициями неформального лидера, надо было затоптать ростки чьего бы то ни было возрождения, а это достигается беспощадным и безответным унижением.
– Петруччо, любезный дружище, быть может, тебе хочется поговорить об увлечениях, изволь голубчик! Давно я в тебе заприметил некие странности, да вот как-то не досуг было прояснить свои наблюдения. А вот ты и напомнил мне, братец, спасибо! Ты ведь дрожишь, как осиновый листок, над каждой иностранной кассеткой! А они же, несмотря на твое любовное к ним отношение, все равно хрипят и шипят как голодные змеи. А у тебя от них какая-то дутая гордость: альбомы, винилы, сорокопятки, синглы, пленки десятый раз переписанные, которые слушать невозможно кроме тебя, чахнущего над своими каталогами. Среди какофонии помех, тобою лелеемых записей, слышны только слабенькие отголоски модных групп, а тебе радостно, будто сидишь на концерте в одиночестве и гордость тебя распирает от нового, замусоренного помехами приобретения. От твоих вопящих и шаркающих шарманок можно оглохнуть или получить ранний склероз.
Коллекционер шипящего, бренчащего и завывающего, может быть тебе заняться собирательством бакалейных товаров, то бишь коробков спичек, бутылочек или заинтересоваться полиграфией соцреализма? Голубятню можешь смастерить, свистеть-то умеешь, дурного воздуха в голове вволю. А, быть может, тебе бросить свои фальшивые увлечения, почерпнутые от тлетворного запада и перекинуть внимание на другое, полезное для ума? Или, к примеру, заняться вышиванием, русским народным промыслом? Глядишь и поспокойнеешь, и умиротворение придет в твою раздираемую смутными страстями, мятущуюся душу.
– И это все, на что ты способен? – Петруччо краснел и белел, выслушивая топтание по его гордости, по его хобби. Но затем спокойно дослушал своего противника, ему известно, что все равно к нему каждый напросится, с благодарностью, послушать собранную им фонотеку и Слон об этом отлично знает.
– Отнюдь, это тезисные советы, если желаешь проведу углубленную предметную беседу, только намекни.
Двое замерли, стоя напротив, на их лицах деланно сияло умиление от «приятной беседы». Затем во взглядах отразилась удовлетворенная ухмылка. Осталось пожать руки и разойтись по своим местам в классе, но вдруг, со стороны входной двери, неожиданно раздался голос GalMaxi (это наша гениальная математичка). Голос, как всегда гортанный, презрительно-ироничный, подчиняющий и лишающий воли свободомыслия. Вокруг всё вначале застыло, а затем стыдливо и поспешно бросилось занимать свои места.
– Друзья мои, позвольте узнать, если, конечно, я стою вашего драгоценного времени, и вы удостоите меня своим вниманием, сейчас урок начался риторики или же, не побоюсь этого слова, математики? Молчите! Ах, я, вероятно, ошиблась кабинетом, зданием, временем года, эпохой! – голос ее от робко-дружелюбного-заискивающего и вкрадчивого постепенно нарастал до громоподобного, угрожающего. Отвечать на это не надо было, а лишь только молчать и не шевелиться. – Смоленский, к доске! – GalMaxi избрала интонацию с принужденно-обреченной окраской, мол здесь ждать ничего не приходится, но исполнять долг педагога надо. – Наш ритор, вскормленный пошлыми находками из репертуара дурной компании и взращенный уличным ветром, сейчас решит задачу прошлого занятия, конечно, если соберет в кучку изредка разбросанные в мозгу серые клеточки . . .
2.Сплетение прозы и поэзии.
Мне попадались книги с произведениями зарубежных классиков. И иногда, подметая клешами (своеобразные штаны в эпоху RollingStones и Мика Джаггера) тротуары в моменты временного оскудения насущных тем и в периоды охлаждения к перетиранию в фарш друг друга, я пересказывал их содержание, обычно в эти моменты слушателем бывал Николс. Мы всякий раз находили с ним общий язык и задушевные темы для разговора, и на нем я всегда проверял свои мысли и возникающие чувства без опаски быть сданным на осмеяние шелупони из нашей гопкомпании. Он сам не часто находил времени для чтения, или книг удачных у него не было, поэтому подчас ему интересно было меня послушать. Однажды я ему рассказал с самого начала «Собор Парижской Богоматери», где переплетались любовь и ненависть, христианские догмы и людская слабость перед наживой и страстями. Жизненная книга! Он удивился,
– Как ты все это подробно запомнил и живописал чуть ли не в лицах? У меня даже сложилась живая картинка перед глазами. Чувствуется ты передаешь манеру речи персонажей, потому что это совсем не твой стиль разговора? Почему же ты в школе не блещешь красноречием? У тебя сейчас получается почти гениально. И память прекрасная, ты что, на уроках дурака валяешь?
– Да, в школе что-то не получается, нет интереса, что ли. Навязанное в голову не въезжает.
– Что же у других въезжает?
– Наверное, я по-другому сделан. То, что интересует, мигом откладывается. Так же, как всякая дурь в стихах, её же никто не учит, сама зараза пристает, да еще навязчиво свербит и крутится в башке, попробуй отделаться. Как говорится, эрудиция паразитирует на слабости человеческой.
– Согласен, анекдоты и шансонные песенки с лету запоминаются. Почему не происходит наоборот? Досада. К завтрашнему утру надо выучить отрывок «Мцыри» из Лермонтова, чую попортит он крови, и угораздило же ему взяться за поэзию. Если я его вот сейчас бы встретил, руки бы не подал. А ты подал бы?
– Пожалуй я бы тоже не подал.
– Надо добавить, если бы при встрече нас заметили бы кто-нибудь из них.
– Ну да! Сказал бы, иди погуляй и подумай, вон Пушкин легок и виртуозен в своих рифмах, поучись, а потом навязывай детям свое творчество.
Вот так слово за слово обсуждали мы свои, порою, невыносимо сложные дела.
3. Бег с препятствиями по облакам.
– Слон, что с твоим лицом? Отчего такая мертвенная бледность, оторопелость? Взгляд остекленелый, дрожишь всем телом, ты не здоров? Присядь-ка лучше тут, у ограды, я сбегаю за врачом, поликлиника тут не далеко!
– Николс, уймись не надо врача! Гляди в ту сторону, всё происходит там, словно Божество спустилось, прекрасное наваждение, воплощение невинности и чистоты!
– Что ты выдумал? Я ничего такого не вижу! Ты что начитал перед прогулкой, Евангелие от Фомы? Или к пасхе готовишься?
– Она только что вывернула со двора, гляди же, открой свои глаза, это же Ирен! Эх! Ты, толстокожий, не замечаешь, а вокруг нас, между тем, засияло сиянием! Удивительно как она легко идет, словно парит над землею не человек, а облачное создание! А неповторимая прическа, как хороша! А этот удивительный чудесный хвостик на голове летает плавно и легко, словно пушистый беличий! Или нет, он соткан из солнечных лучей и невесомо парит в пространстве! Погляди же, как гордо у нее сидит голова, будто у придворной дамы эпохи всех Людовиков, а, может быть, даже как у дофины, Марии Антуанетты! Да и фигура-а, как у подрастающей принцессы, по правде сказать, это лучше угадывается в ее грациозном движении. Похоже одежда так продумана, что прикрыты все изящные линии от «будто бы» нескромных взглядов, но я-то все замечаю. Увы, наша легкая промышленность так ревностно заботится о целомудрии граждан, что только пристальный и заинтересованный взгляд может различить Богом созданное естество! Ты почему в другую сторону смотришь, я с тобою беседую или же с этим холодным каменным забором? Да ты посмотри в эти глаза, там бездна не открытых тайн и множество высоких устремлений! А эти губы, такие яркие, такие живые, и слегка полураскрыты в пленительной полуулыбке, глаз не отвести от этой прелести! И надо же, это неземное очарование учится в нашем классе! Такое целомудренное сокровище следует надежно охранять и оберегать родителям. Да куда ты свою башку воротишь, деревенщина, неужели девичья красота тебя не пленяет? Завтра насмотришься в ту сторону или потом когда-нибудь, куда ты там таращишься! Вот там отдохновение всего земного и суетного! Туда гляди!
– Дружище, остынь, успокойся, обычно мне хватает взгляда, чтобы заприметить что-либо стоящее. А здесь не вижу ничего примечательного: походка как у цапли, выглядывающей лягушек в болоте, хвост на затылке типа хлыста над попой коровы, будто метет им для острастки слепней. И где ты фигуру узрел, прозорливый слепец, где же там талия, замысловатые линии, которые тебя так пленили? Все сливается в единую массу. Взгляд как маска, ничего не выражает, глаза мутные стекляшки, нос гороховый стручок, губы пусть яркие, но рот как резиновый растягивается всякий раз, как только в мозги придет какая-нибудь глупость. Может быть, она и принцесса, но к которой никто и не посватается, ну разве что Робинзоны с необитаемого остова передерутся за это не оформившееся женское начало. Эх ты, простофиля! Наверное, на солнце насмотрелся, а теперь в глазах бликует и отсвечивает!
Кстати сказать, глаза твои случаем не приметили, что рядом с нею уже идет охрана в лице Макса? А ты готов выскочить из башмаков и бежать вприпрыжку за ней как мальчишка с аденоидным статусом, сверкая худенькими коленками.
– Да что ты несешь!? Ты сегодня зол и циничен, друг мой, и своими возмутительными характеристиками теперь хочешь обидеть ранимую исстрадавшуюся душу?
– Обидеть? Нет! Я хочу лишь водворить тебя на твёрдую почву здравого смысла, а ты как воздушный шарик в майские праздники, все рвёшься к облакам.
– Ладно, прощаю, поскольку тебе не свойственно быть жестоким. Однако, в дальнейшем, поостерегись голубчик от поношений чужих идеалов, даже если их не разделяешь!
– Знаю, голубчик, тебе она нравится, ты в нее влюблен, так сказать, вляпался. А может быть вбил в свои незрелые мозги эту лирику из-за книжек своих? Все это как-то не серьёзно, право! Или время пришло, потеплело во дворе, деревья ожили, под корой соки побежали, выскочили свежие листочки, может быть, и у тебя что-то оживает, только не знаешь, что с этим делать? Ты же читал, собака такая, Мольера «Собака на сене» и мне, помнится, виртуознейшим образом живописал как избавиться от слепого любовного наваждения! Да представь ты ее мокрой, скользкой, с колтуном на голове в выцветшем, рваном халате, в галошах на босу ногу, или лыковых лаптях с вылинявшими портянками, еще чего-нибудь, у тебя воображения хватает, вижу начерпал из литературы! Вмиг избавишься от чумного наваждения!
– Не неси ахинею! Сам собака! Да, нравится, влюблен, но она же с Максом крутит, ты верно все подметил! – последние мои слова были с горчайшим завыванием, достойным унылого фанатика, способного принести беду себе и окружающим, не успевшим вовремя отмежеваться от параноика.
– Брось ты! Это еще ни о чем не говорит, – Николс был несколько напуган крайней эмоцией и безумным взором Слона, грозящей неконтролируемо и безвозвратно перейти в депрессивный статус, и решил слегка примириться с бредовой ситуацией, чтобы держать разворачивающиеся события под контролем – да они же в одном доме живут, и с детства друг друга знают как облупленные, какая же тут любовь может быть, сам сообрази?
– Но ты видишь, он обнимает её за талию, это же о чем-то говорит?
– Мне это говорит о том, что она даже не ощущает его прикосновения, потому что он ей безразличен, или может быть она больная и ее знобит!
– Спасибо дружище, но мне это говорит, что при такой жаре он ее обнял потому, что она ему позволила это сделать и сама не против пообжиматься.
– Дурак ты право слово! Девушка подросла, гормоны проснулись . . .
– Ты мне еще про дерево с листочками пробормочи . . .
– Все подружки обзавелись мальчишками, а ей что же ходить одинокой гордой гусыней, потому что еще нет настоящей и «чистой» любви?
– Слыхал, потеплело и соки под корой двинули вверх . . .



