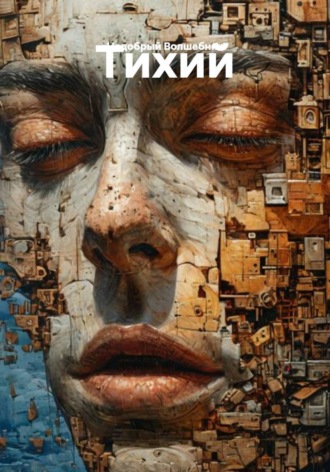Он наконец оторвал взгляд от окна, впервые с начала своего рассказа, и посмотрел прямо перед собой. Но смотрел он не на журналиста, а куда-то в пустое пространство между ними, где в холодном воздухе, казалось, висел незримый призрак его собственного повествования.
– Он выбрал её не потому, что она была слабой. И уж точно не потому, что она была сильной. Она была доступной. – Он произнёс это слово с клинической, леденящей точностью, как патологоанатом ставит штамп на окончательном диагнозе. – Физически, социально, психологически. Её границы были размыты, почти стёрты этой самой привычкой быть всегда и для всех открытой.
Внезапно в кабинете стало ощутимо холоднее. Это не было метафорой. Казалось, кто-то невидимый приоткрыл форточку, впуская в стерильное помещение сырое, колючее дыхание шторма. Кайл не обратил на это ни малейшего внимания. Он продолжал:
– Вечером она вышла из здания позже обычного. Это всегда чувствуется – момент, когда пространство вокруг человека радикально меняет свою плотность. Днём оно шумное, насыщенное сотнями чужих сигналов, оно служит защитой, броней. Вечером же пространство пустеет. Оно становится проводящим, как обнаженный нерв. И тогда внимание, которое раньше работало как естественный щит, просто перестаёт функционировать. Остаётся лишь иллюзия связи.
Кайл описывал происходящее так спокойно, с такой отстранённой уверенностью, будто зачитывал вслух протокол давно завершённого лабораторного эксперимента, результат которого был известен заранее.
– Он не торопился. Он просто шёл рядом, безупречно соблюдая дистанцию в полтора-два метра – достаточно, чтобы не вторгаться в её личное пространство раньше времени, но достаточно, чтобы стать естественной, неизбежной частью её пути. Разговор был коротким. Ни о чем. О погоде. О том, что дождь сегодня выдался какой-то особенно тяжёлый, липкий. О том, что от него почти невозможно спрятаться. Обычный, безобидный, социально одобряемый шум.
Кайл чуть наклонился вперёд, и резкий свет лампы вырезал острые скулы на его лице, углубив и без того черные тени под глазами.
– Люди часто соглашаются на сопровождение до дома, – почти прошептал он, и в этом шёпоте на миг проскользнула странная, почти жалостливая интонация. – Не потому, что они чувствуют страх. А потому, что они не хотят показаться грубыми или неблагодарными. Не хотят нарушить этот негласный, дурацкий договор вежливости. Это критический момент. Момент, когда внутренняя социальная программа окончательно перевешивает инстинкт самосохранения.
Он снова замолчал, давая журналисту время сделать вдох. В наступившей тишине зазвенел где-то на пределе слышимости высокий, тонкий звук – может быть, это был свист ветра в оконной щели, а может, предельное напряжение в самих нервах слушателя.
– Она открыла дверь своего дома сама. Это было важно. Ключевой элемент всей структуры. Он не входил туда как кто-то чужой, как агрессор или нарушитель границ. Он вошёл как естественное продолжение начатого разговора. Как логичное развитие ситуации. Как неизбежное следствие.
В этот момент дождь с новой силой ударил по стеклу. Грохот был таким, что всё здание лечебницы, казалось, содрогнулось до самого фундамента. Шум воды на пару секунд полностью заглушил всё – тиканье часов, дыхание мужчин, даже их собственный стук сердца. И в этой внезапной, оглушительной какофонии Кайл, не повышая голоса, продолжил, и его слова пробивались сквозь внешний грохот, как острое лезвие пробивает плотную ткань:
– Он не применял никаких резких движений. В этом не было ни малейшей необходимости. Когда человек на глубоком уровне окончательно перестаёт ожидать опасность, его тело… оно просто расслабляется. Мышцы теряют тонус. Рефлексы засыпают. Тело само сдает все позиции. Это не сопротивление. Это полная капитуляция системы.
Грохот дождя стих так же внезапно, как и начался, оставив после себя звенящую, оглушённую тишину. В неё голос Кайла влился плавно, почти незаметно:
– Всё закончилось быстро. Он проверил пульс. Затем подождал. Иногда ожидание – это самая длинная и важная часть процесса. Нужно убедиться, что система отключена полностью. Что больше нет никакой обратной связи.
Он замолчал, и теперь тишина в кабинете приобрела иное качество – она стала насыщенной, тяжёлой, как стоячая вода после кораблекрушения. Тишину нарушал лишь далёкий, приглушённый гул в недрах здания и вновь возобновившееся, теперь уже яростное биение дождя по крыше.
– После он не стал ничего менять, – Кайл говорил теперь совсем тихо, словно обращаясь к самому себе. – Не переставлял предметы в комнате. Не создавал искусственный хаос. Он не стремился оставить следы, но и не заметал их специально. Следы – это информационный шум, это лишнее привлечение внимания к процессу, а не к результату. Его же интересовал только результат. Чистое, идеально тихое состояние «после».
Журналист медленно поднял взгляд от своих неподвижных рук. Его лицо было бледным, почти прозрачным, но взгляд оставался непроницаемым.
– А тело? – спросил он. Слово прозвучало не как вопрос, а как формальная метка, которую необходимо поставить в нужной графе отчета.
Кайл ответил не сразу. Он медленно откинулся на спинку своего кресла, и старая кожа снова издала тихий, протестующий скрип.
– Он оставил его там, где оно перестало быть функцией, – сказал он, и в его голосе впервые прозвучало нечто, отдалённо напоминающее глубокую усталость. – Там, где человек снова становится просто телом. Материей. А не социальной ролью, не набором фальшивых сигналов. В этом была своя… чистота.
Он сделал паузу и добавил:
– И перед тем как уйти, он выключил свет.
Эта фраза упала в тишину, как тяжелый камень падает в глубокий чёрный колодец. Она прозвучала не как описание простого жеста, а как финальный, абсолютный символ.
– Это был первый раз, – добавил Кайл, и его взгляд снова уплыл в окно, в бушующую за ним серую мглу, – когда он понял, что темнота может быть не наказанием. Не символом чего-то злого. А формой завершения. Финальной точкой. Абсолютным, неоспоримым концом любого шума.
Как будто в ответ на эти слова дождь за окном перешёл в фазу непрерывного, тотального ливня. Вода обрушилась на город сплошным, рокочущим потоком, смывая последние намёки на архитектурные формы, на остатки света, на индивидуальность улиц. Это был уже не просто шторм. Это было стирание реальности.
В кабинете теперь пахло не только старой бумагой и пылью. В воздухе витал едва уловимый, холодный запах озона – какой бывает после мощного электрического разряда, очистившего атмосферу. И еще, где-то глубоко под ним, ощущался сладковатый, тошнотворный дух мокрой шерсти и затаенного страха, который невозможно было локализовать, но который, казалось, въелся в стены, в одежду и даже в сам язык.
Журналист не шевелился. Он ждал, что будет дальше. А дальше была только вода, бесконечно падающая с неба вода, и тиканье часов, методично отсчитывающих время до начала следующей истории.
Глава четвертая
Пауза после первой истории не была отдыхом. Она была заполнителем, временем, за которое предыдущие слова успели остыть и осесть в воздухе тяжелым, липким осадком. Теперь этот осадок давил на барабанные перепонки, смешиваясь с новым измерением дождя.
Дождь больше не был просто фоном. Он стал физическим давлением, почти осязаемой массой. Вода не просто стучала по стеклу – она долбилась в него, упрямо, с тупой, первобытной силой, будто решила во что бы то ни стало пробить барьер между мирами. Шум окончательно потерял всякий ритм. Теперь это были не капли, а сплошной, рокочущий гул, прерываемый яростными всплесками, похожими на хриплые, предсмертные выдохи. Он напоминал звук плохо работающего легкого, пытающегося вдохнуть под толщей воды.
Кайл сидел, отдаваясь этому гулу, позволяя ему заполнить собой каждый уголок сознания. Он знал этот принцип: чтобы шум перестал быть помехой, его нужно сделать частью фона, поднять порог чувствительности до максимума. Иначе мысли начнут спотыкаться о его неровные края, терять нить, рассыпаться.
– Вы спрашиваете о мотиве, – сказал он наконец, не глядя на журналиста. Голос его был плоским и холодным, как поверхность замерзшего озера перед началом шторма. – Здесь нет мести. Нет даже тени гнева. И уж тем более – желания причинить боль как таковую. Боль – это побочный эффект. Сопутствующее явление, неизбежное, как трение.
Он произнёс это не как оправдание, а как констатацию непреложного физического закона – вроде того, что металл всегда расширяется при нагреве.
– Если искать одно слово… – Кайл сделал паузу, будто проверяя вкус термина на кончике языка. – Санитация.
Журналист медленно поднял голову. Его глаза в полутьме кабинета были похожи на два тёмных, непроницаемых стекла, отражающих тусклый, колеблющийся свет лампы. Он не просто слушал – он судил. В его взгляде, прежде профессионально-нейтральном, начала проступать первая, едва заметная нить отвращения.
– Значит, «санитация»? – Журналист переспросил негромко, но в его интонации впервые прорезался металл. – Вы называете убийство человека гигиенической процедурой?
Кайл проигнорировал выпад. Он не воспринимал их как людей, – продолжил он, поворачиваясь к окну. В стекле, размытом потоками воды, плавало искажённое отражение кабинета: растянутый до нелепости потолок, кривое очертание лампы, две тёмные, почти лишенные человеческих черт фигуры за столом. – Только как симптомы. Шумные. Навязчивые. Искажающие чистоту основного сигнала. Помехи в передаче данных.
Он замолчал, наблюдая, как очередной ливневой вал обрушивается на стекло, пытаясь смыть это уродливое, зыбкое отражение.
– Вторая жертва в деле проходит под литерой «B». Boundaries. Границы.
Кайл слегка качнул головой, словно соглашаясь с неизбежностью и правильностью этого термина.
– Это был человек, который совершенно не умел их держать. Не в физическом смысле – стены его квартиры и замки на дверях его, вероятно, вполне устраивали. В смысле информационном. В смысле разделения внутреннего и внешнего. Своего – и чужого.
Он заговорил ещё медленнее, чем в первый раз, будто разворачивал хрупкий, древний свиток, боясь повредить истлевший материал.
– Он знал слишком много. И делился этим знанием слишком охотно, слишком навязчиво. Не из какой-то осознанной злобы или корысти. Из болезненной потребности быть значимым, быть замеченным. Чтобы само его присутствие в пространстве было зафиксировано, отмечено непрерывным потоком данных. Это был его единственный способ существования – постоянная, бесперебойная трансляция.
Кайл сел ровнее, расправил плечи, непроизвольно принимая позу лектора, читающего лекцию в пустой аудитории.
– Такие люди создают у окружающих опасную иллюзию близости. Они вторгаются в твою жизнь незаметно, под самым благовидным, вежливым предлогом. Сначала – мимолетным словом, безобидной подробностью. Потом – собственной интерпретацией, навязыванием личного смысла. Потом – прямым искажением реальности, когда чужая история незаметно подменяется их собственной версией. Их личность – это вирус, агрессивно распространяющийся через речь.
Внезапно дождь ударил по стеклу с такой дикой яростью, что оно, казалось, прогнулось внутрь, готовое лопнуть. Кайл на мгновение замолчал, дав стихии выдохнуть свою порцию бессмысленного гнева.
– Он нашёл его не через долгую слежку, – продолжил он, когда грохот чуть стих. – Он нашёл его через шум. Есть люди, чьё присутствие слышно даже в абсолютной тишине. Оно вибрирует в воздухе высокой частотой готового вот-вот прорваться слова. Он слушал его везде. В переполненном вагоне метро, где все остальные молчат, уткнувшись в воротники. В бесконечной очереди в кассу. В уличном кафе, где люди, расслабляясь под влиянием кофе или алкоголя, перестают фильтровать свою речь. Информация лилась из него сама, как мутный гной из вскрывшегося нарыва. Не требовалось никаких усилий, чтобы её собрать. Нужно было лишь вовремя не затыкать уши.
Кайл сцепил пальцы в замок на столе. Кожа на суставах натянулась и побелела.
– Он не выбирал момент сразу. Сначала нужно было понять, какую именно функцию выполняет этот шум в системе. Был ли он просто безвредным фоном, как гул старого холодильника, или деструктивным элементом, как паразитарная обратная связь в микрофоне, выводящая всю электронику из строя. Оказалось – деструктивным. Шум создавал помехи, забивал собой эфир, мешал прохождению других, более важных сигналов. Он безнадежно искажал среду обитания.
– И вы решили, что имеете право «откалибровать» среду? – Журналист подался вперед, входя в круг света. Его лицо теперь не было непроницаемым; желваки на челюсти заходили ходуном. – Вы описываете человека как неисправный прибор. Но он был живым. У него была семья, вероятно, друзья, которым он «доверял» этот свой «шум».
– Вечером он последовал за ним, – голос Кайла стал почти мечтательным, игнорирующим растущую агрессию собеседника. – Не близко. На расстоянии, достаточном, чтобы не становиться частью разговора, но чтобы безошибочно улавливать обрывки фраз. Чтобы видеть, как этот человек, выходя из защищенного общественного пространства, несёт свой шум с собой, как липкий кокон. Он нёс его к себе домой, в предполагаемое место абсолютной тишины.
Дождь за окном превратился в сплошную, непроницаемую стену воды. Отдельные капли давно потеряли индивидуальность, слившись в единый рокочущий монолит. Свет редких фонарей снаружи окончательно погас, поглощённый водяной пеленой.
– Он не вошёл в дом сразу, – продолжал Кайл. Его глаза теперь были плотно закрыты, будто он смотрел внутреннюю кинохронику. – Подождал под козырьком подъезда. Подождал, пока поток слов иссякнет естественным образом. Пока в окнах выключится телевизор, пока бесконечные телефонные разговоры оборвутся. Пока человек останется наедине с продуктами собственного шума – с тишиной, которую он сам же всю жизнь и нарушал. В этой тишине должно было наступить осознание. Или паника. У таких людей чаще наступает паника.
Кайл сделал паузу. На этот раз – долгую, тягучую. В кабинете, кроме гула дождя, стал различим другой звук – слабый, на грани слышимости. Похожий на шорох страниц, листаемых чьей-то невидимой, нервной рукой. Или на шелест перематываемой магнитофонной ленты. Он шёл со стороны книжной полки, где стояла энциклопедия.
– Он не говорил с ним много, – прошептал Кайл, не открывая глаз. – Лишние слова были бы тем самым мусором, который он пришёл остановить. Он просто смотрел. И человек в какой-то момент… понял. Без единого слова. Понял, что наконец-то столкнулся с абсолютным слушателем. С тем, кто не собирается ничего комментировать, оценивать или интерпретировать. Кто здесь только для того, чтобы зафиксировать факт окончательного прекращения передачи.
Он выдохнул – долгий, почти невесомый выдох, в котором странным образом слились смертельная усталость и глубокое удовлетворение.
– Всё произошло без малейшего сопротивления. Люди, которые привыкли всю жизнь заполнять собой эфир, никогда не бывают готовы к настоящей тишине. Их единственная защита – слова. Когда слова отняты или обесценены, они… зависают. Система дает необратимый сбой. Он просто… закрыл источник шума. Не как акт агрессии. Как техническое действие. Как нажатие на клавишу выключателя.
– Вы лишили его жизни просто потому, что он был общителен? – Голос журналиста сорвался на хрип. Он сжал ручку так сильно, что пластик хрустнул. – Это не «санитация», Ним. Это мания величия. Вы возомнили себя богом в пустом кабинете, решающим, кому молчать, а кому дышать!
Дождь внезапно стих на несколько секунд, и в этой оглушительной, давящей тишине последние слова Кайла прозвучали с леденящей, хирургической ясностью.
– После он не стал ничего убирать. Открыл глаза – они были сухими и совершенно пустыми. – Не стирал следы. Не наводил порядок. Порядок уже был наведён в тот момент, когда остановилось сердце. Шум прекратился. Он просто вышел и закрыл дверь. Снаружи. На ключ.
Эта фраза упала в пространство кабинета с весом чугунной гири.
– Для него это и было завершением, – сказал Кайл, откидываясь на спинку кресла. Кожа снова скрипнула, словно протестуя против тяжести его тела. – Граница восстановлена. Канал связи – закрыт. Шум – окончательно остановлен. Он искренне верил, что после этого мир станет тише. Чище. Правильнее.
За окном дождь достиг своего апогея. Он больше не мешал слышать мысли. Он стирал саму возможность мыслить. Это был белый шум вселенной, первобытный хаос, в который можно было провалиться и исчезнуть без следа.
Кайл замолчал. Снова.
Но тишина в кабинете была уже другой. Она была отравлена. В ней, как тяжелое эхо, висело послевкусие – не крови, нет, а чего-то стерильного, технического, бездушного. Запах озона усилился, смешавшись теперь с едва уловимым ароматом старого переплёта и пыльной бумаги – запахом тех самых зелёных томов на полке. Журналист смотрел на Кайла с нескрываемой яростью, его лицо раскраснелось, дыхание стало неровным. А книги за спиной доктора, казалось, внимательно слушали, затаив дыхание, и ждали своей очереди, чтобы вписать в себя еще одну главу этого безумия.
Глава пятая
Время перестало иметь значение. Дождь утвердил свой режим – перманентный, тотальный, как незыблемый закон природы. Он не начинался и не кончался. Он просто был, заполняя собой всё: пыльные промежутки между словами, рваные паузы в дыхании, даже короткие провалы в сознании. Его шум превратился в низкочастотный гул, вибрирующий в костях, резонирующий с самой структурой здания. В какой-то момент Кайл перестал понимать, где кончается этот внешний грохот, сокрушающий крышу, и где начинается внутренний шум – тот, что генерировался самим мозгом в ответ на сенсорную перегрузку. Они слились в один сплошной, серый фон, на котором его голос теперь звучал как чистый, но пугающе хрупкий сигнал, пробивающийся из самой глубокой шахты.
– Третья жертва, – сказал он. В этих словах не было вступления, не было подготовки. Они вышли сухими и тяжелыми, как патрон, досланный в патронник. – Она была иной. Совершенно иной.
Он сделал крошечную паузу. Это не было театральным жестом для слушателя; Кайл замер для себя – будто застыл перед картотечным ящиком, сверяясь с внутренним каталогом и проверяя точность выбранной формулировки. Его взгляд приклеился к одной точке на полированной поверхности стола.
– Если первые две жертвы нарушали порядок пассивно – просто своим нелепым существованием, как фоновый брак производства, – то здесь речь шла о прямом захвате пространства. Об активной, осознанной агрессии против пустоты.
Кайл сидел как изваяние, но при ближайшем рассмотрении было видно, как опасно напряжены трапециевидные мышцы у него на шее. Не сутулясь, не горбясь, он словно нес на плечах невидимую плиту, филигранно распределяя её колоссальный вес по всему позвоночнику. Это было напряжение не эмоциональное, а сугубо физическое, как у человека, который часами неподвижно сидит в неудобной позе, боясь пошевелиться, чтобы не обрушить хрупкое равновесие окружающих его предметов.
– «C», – выдохнул он, и буква прозвучала не как начало слова, а как свистящее шипение воздуха, вырывающегося из проколотой шины. – Control. Контроль.
Журналист не моргнул. Он сидел неподвижно, его блокнот лежал на коленях закрытым, словно журналист боялся, что шорох переворачиваемой страницы может прервать этот исповедальный ток.
– Это был человек, который всегда говорил первым, – продолжил Кайл, и его голос стал чуть ниже. – Тот тип людей, который не просто отвечает на вопросы, а переформулирует их за других, лишая собеседника права на собственную мысль. Он говорил громче всех, методично перекрывая не только тишину, но и любые другие, более слабые голоса. Он искренне считал, что тишина – это признак некомпетентности или слабости. Для него пустота была врагом, вакуумом, который нужно немедленно, любой ценой забить звуковым мусором. Это был звуковой террор, угрожающий самому моему существованию.
Дождь ударил по стеклу очередным яростным залпом. Отражение настольной лампы в окне на мгновение распалось на сотни дрожащих, золотистых осколков, поплывших по водяным потокам. Казалось, кто-то снаружи провел мокрой, гигантской ладонью по картине реальности, окончательно исказив её пропорции.
– Он не сплетничал, – Кайл медленно, словно преодолевая сопротивление густой среды, повернул голову к этому расплывчатому миру за стеклом. – Он не вторгался исподволь, с намеками или полуправдой. Он именно занимал. Как бронированный танк занимает мирную улицу. Как вульгарная громкая музыка занимает чужую квартиру, просачиваясь сквозь перекрытия. Он присваивал себе все акустическое пространство и считал его своей законной территорией, своим феодом.
Он замолчал, давая журналисту время визуализировать эту фигуру: не обязательно крупную физически, но непоколебимо, почти религиозно уверенную в своем праве на эфир.
– Вы ведь встречали таких? – Кайл внезапно перевел взгляд на гостя. – Такие люди меняют химический состав воздуха в комнате. Они делают его гуще, липким, перенасыщенным собой. Они перестраивают архитектуру пространства под свои нужды – громкостью, избыточным жестом, наглым взглядом – никогда не спрашивая разрешения. Для них мир – это личная сцена, а все остальные – либо восторженные зрители, либо бессловесные статисты.
Голос Кайла оставался ровным, но в нем прорезалась стальная, хирургическая четкость технолога, описывающего фатальный сбой в работе сложного механизма.
– Он заметил его не сразу. Сначала это был просто фон. Один из множества раздражающих источников городского шума. Потом – нарастающее, пульсирующее раздражение. Знаете, как зубная боль? Та, что начинается с легкого, почти деликатного нытья, но постепенно, час за часом, заполняет собой всё сознание, пока в мире не остается ничего, кроме этой боли.
Кайл сцепил пальцы на столе так крепко, что кожа на костяшках натянулась до белизны, став похожей на пергамент, натянутый на череп.
– Есть критический момент, – произнес он, и каждое слово теперь было отчеканено, как тяжелая монета, – когда громкость перестает быть просто физическим свойством звука. Когда она трансформируется в форму давления. Психического, почти осязаемого. Когда каждый лишний децибел – это целенаправленный удар по барабанным перепонкам, по обнаженным нервам, по твоему священному праву на внутреннюю тишину. Он почувствовал это именно тогда. Это не была банальная злость. И не ненависть. Это был антагонизм систем. Конфликт порядка и энтропии.
Дождь за окном словно откликнулся на его слова, став еще массивнее. Вода теперь не падала с неба, а будто выливалась из гигантской, бездонной емкости прямо над крышей – плотная, серая, неумолимая стена.
– Он не выбирал жертву по внешним признакам, – продолжал Кайл, глядя сквозь журналиста. – Социальный статус, физическая сила – всё это шелуха. Речь шла о непрерывности процесса. О настойчивости. О тотальном, принципиальном отсутствии пауз в его существовании.
Кайл замолк, подбирая единственно верное слово. Его взгляд блуждал по потолку, где слабый свет лампы рисовал зыбкие, дрожащие тени от струй воды, беснующихся за стеклом.
– Этот человек никогда не останавливался. Ни в речи – даже когда он молчал секунду, было видно, что он продолжает лихорадочно говорить внутри себя, этот монолог читался по сведенной челюсти и лихорадочно блестящим глазам. Ни в движении – даже сидя, он обязательно постукивал пальцами по дереву, качал ногой, постоянно менял позу, ерзал. Он был воплощенным перпетуум-мобиле шума и суеты. Хаос в человеческом обличье.
Кайл наклонился чуть вперед, и его лицо внезапно вошло в полосу резкого, беспощадного света лампы. Глубокие тени под глазами мгновенно стали похожи на трупные пятна или синяки от долгой бессонницы.
– Он следовал за ним недолго. Здесь не требовалось длительного изучения повадок. Поведение объекта было алгоритмичным, предсказуемым, как ритм метронома. Такие люди всегда ходят одними и теми же путями, заполняя эфир одними и теми же заученными фразами. Они боятся тишины больше смерти, поэтому они предсказуемы.
Он говорил без тени оценки, без морализаторства. Как инженер, зачитывающий сухие пункты технического задания.
– В конце концов, они оказались в замкнутом пространстве.
Кайл не стал уточнять место. Лифт? Глухой коридор в конце рабочего дня? Запертая комната ожидания? Журналист и сам почувствовал это: место, где пространство сжимается, стены придвигаются вплотную, а звук, не имея возможности рассеяться, начинает резонировать, многократно усиливаться и биться о кафель или металл, возвращаясь к источнику невыносимым эхом.
– Разговор начался сам собой, – Кайл позволил микроскопической, безрадостной усмешке коснуться уголков рта. – Такие люди физически не выносят молчания, особенно когда они заперты с кем-то еще. Они воспринимают тишину как личный вызов, как враждебный вакуум, который необходимо срочно, любой ценой зацементировать своим присутствием. И он начал говорить. О чем-то совершенно ничтожном. О погоде. О каких-то рабочих деталях. О чем угодно. Главное – чтобы звук не прекращался. Чтобы эфир не пустовал.