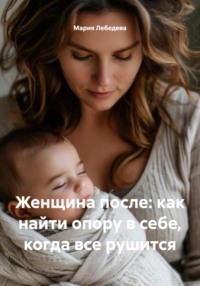Полная версия
Тощие ветви ивы
Когда стемнело и зажглись фонари, мы встали в большой круг и запели. Мы верили в это так сильно, будто круг из рук и был той единственной вечностью, что не подвластна никаким ветрам.
Но когда песня оборвалась и круг распался на отдельные фигуры, я увидела Бронислава. Он стоял в стороне, спиной к веселью, и смотрел в темноту за околицу. Я подошла к нему, просунула руку под его локоть. Он вздрогнул, словно разбуженный, и на миг его рука обвила мои плечи так крепко, почти болезненно.
– Что-то случилось? – спросила я шепотом.
– Пойдем домой, Стася, – сказал он просто. – Я устал от этой музыки.
Мы шли по темной дороге, и тишина вокруг была уже настороженной, как затаившееся животное перед прыжком.
Глава 18. Три ОгняВесна выдалась обманчивой. Лед с реки сошел, но зима не отпускала: по утрам земля звенела под ногами ледяной крошкой, а столбы от печного дыма, стояли над каждой крышей. На ту неделю выпало три вызова, три бездны нищеты.
Перед первым выходом, проверяя сумку, я провела пальцами по футляру с иглами, по замоченным в склянке ниткам. Привычный жест, будто проверяла, на месте ли мой внутренний стержень. Готова ли я снова нести этот груз.
В избе, где старшие дети, словно птенцы, грели младших под единственным одеялом, я приняла жизнь. Пол устилала старая рогожа, окна щемили тряпичные пробки. Женщина рожала молча, лишь блеск огромных глаз выдавал, как далеко она уходит в эту боль, в темный лес схваток. И когда ребенок, огласил тесную комнату первым громким криком, он прорвал отчаянье. Этот крик стал костром, разожженным посреди нищеты.
Следующий дом встретил холодом потухшей печи и одним-единственным стулом. Муж, держал жену под мышки, схватки качали ее, как ветку на ветру. Слабость матери, холод, сжимающий легкие новорожденного. Ребенка мы завернули в единственную шаль. Он дрожал у меня на руках, как последнее пламя в очаге, которому грозит затухание. Его дрожь я чувствовала сквозь ткань, и кожу, до самого сердца.
Третий дом был самым темным. Керосиновая лампа отбрасывала жуткие тени на стены, пляшущие силуэты боли. Принимая тяжелые роды в невыносимых условиях, на грани жизни и смерти, я чувствовала, как почва уходит из-под ног. И вдруг в памяти всплыл образ иглы, холодной, тонкой и непоколебимой в своей цели.
И меня осенило: я, игла, моё дело, протягивать сквозь плоть мира нить знания, воли и дыхания. Без меня она бессильна, а без нити я, просто кусок стали. Но вместе мы стягиваем края рваной жизни.
Роды прошли в этом безмолвии, ребенок появился беззвучно. Пока я растирала его крошечное тельце, вдувая в него жизнь, шепча заклинания опыта и отчаянной надежды. И когда он наконец захрипел, а потом залился пронзительным, сердитым плачем, я выдохнула.
Возвращалась под утро. Снег хрустел под ногами, а в небе еще горели последние звезды. Не каждый вызов оставляет в ладонях жар новой жизни. Иногда он оставляет усталость и щемящую безнадежность. Но за калиткой, в сизой утренней дымке, уже мигали огоньки других окон. И ты снова идешь, потому что во тьме чужой беды, должна родиться не только жизнь, но и надежда. Мостом к ней были мои усталые руки и другого моста у той надежды не было.
Глава 19. ЭфирШли тридцатые годы. Однажды Бронислав принёс тёмно-коричневый приёмник, и он стал центром нашего вечернего мира. Сперва из него лились вальсы, но с какого-то момента эфир начал меняться. Сперва, короткие сводки, на которые Бронислав хмурился. Потом длинные и колючие речи.
В тот вечер на кухне пахло жареным луком, Сильвия выводила пальцем узор на шершавой скатерти. Бронислав, вернувшись с фабрики, машинально потянулся к ручке репродуктора.
И сквозь уютное потрескивание дров в печи в комнату ворвался металлический голос. Он был не из нашего мира тёплых оладий и смешных детских рисунков на стене.
«…наша великая нация подвергается угрозе! Чужаки, паразиты, должны быть изолированы!..»
Ложка в руке Бронислава медленно опустилась. Его пальцы разжались, будто выпуская что-то важное.
И в этой новой, колючей тишине наши дети замерли, каждый на своём рубеже.
Бронику было шестнадцать. Он не отрывал взгляда от репродуктора, слушал ритм этой ненависти, пытаясь осмыслить новую, пугающую логику.
Сильвии, четырнадцать. Она вязала, глядя в окно, но пальцы замедлились, чувствовала угрозу хрупкой гармонии, что царила в её душе.
Сташеку, одиннадцать. Он сидел на полу, перебирая деревянный конструктор, но игра шла вяло. Он чувствовал напряжение, витавшее в воздухе, и его детское сознание пыталось сопоставить знакомые голоса из радио с этим новым и пугающим.
Генрик притих у моих колен, прижавшись плечом. Его взгляд, скользил по взрослым лицам, пытаясь прочесть в них ответ.
– Папа… – спросил Генрик, заставляя Бронислава вздрогнуть. – А кто эти чужаки? Это те, кто… не такие, как мы? Почему их нужно… изолировать?
Бронислав резко встал, с такой силой, что стул грохнулся на пол, выключил приемник и вышел хлопнув дверью.
Запах оладий вдруг стал приторным и противным. Я нашла его в чулане, с бутылкой самогона, что годами пылилась на полке «для крайнего случая». Он пил большими, жгучими глотками.
– Весь мир сошёл с ума. Эти слова… Они же, как кислота… Они разъедают всё.
Он пил от бессилия. В ту ночь свет в его мастерской не зажигался. Он сидел в темноте, и пытался спрятаться от голоса, который уже проник внутрь нашего дома. И от которого уже не было спасения.
Глава 20. Маленькие шумные тени.В нашем доме, у каждого был свой пост и своя обязанность. Если Сильвия была задумчивой барышней, погружённой в собственные мысли, а Броник, серьёзным, немного замкнутым юношей, то Сташек с Генриком по-прежнему оставались вихрем энергии.
Сташек уже не замирал над муравейниками, но мир по-прежнему манил его своими тайнами, которые следовало разгадывать немедленно и с применением физической силы. Он мог с важным видом разбирать старые часы на кухонном столе, а через минуту, с криком: – Смотрите, как работает маятник!, влететь в комнату, едва не снося по пути этажерку.
– Я всё рассчитал, мама! Просто центр тяжести сместился…– Сташек, аккуратнее! – пыталась я вложить в голос упрёк, но он парировал с непоколебимой уверенностью первооткрывателя, чья цель оправдывает любые издержки.
Генрик был его верным оруженосцем и живым компасом, указывающим на источник приключений. Он носился по дому сломя голову, и если Сташек был генератором идей, то Генрик, их оглушительным воплощением. Его радостный возглас, возвещавший о начале очередной «экспедиции» на чердак или в сад, заставлял Сильвию вздрагивать над книгой, а Броника ворчать: – Опять этот локомотив дал гудок.
Но стоило Генрику, споткнувшись, ушибить коленку или столкнуться с несправедливостью старшего брата, как его плач мгновенно мобилизовал всю семью. Это был не просто рёв, это был сигнал тревоги, призыв к сплочению.
Однажды вечером Бронислав, уставший после смены, чинил расшатавшуюся дверцу шкафа. Сташек устроился рядом с инструментами, перебирая стамески и отвёртки, пытаясь помочь. Генрик, с интересом наблюдал за работой отца, его пальцы хватали какой-нибудь винтик или гвоздик.
Я уже хотела вмешаться, но Бронислав поднял руку.
– Пусть, – тихо сказал он. – Пусть учатся. Инструменты должны слушаться рук, а не пугать их.
И я увидела, как его большая, уставшая, но по-прежнему точная в движениях рука накрыла две мальчишеские ладони, более смуглую и уверенную руку Сташека и более мягкую, но не менее цепкую, Генрика. Он водил их пальцами по шершавой поверхности дерева, и они, затаив дыхание, слушали его негромкий, основательный голос:
– Вот видишь, тут сучок. Его нужно обойти, иначе пойдёт трещина. Дерево живое, оно требует уважения.
Они, конечно, не понимали ещё всех тонкостей, но они чувствовали вес ответственности, скрытый в этих простых словах, и доверчиво отдавали свои руки в надёжные отцовские ладони.
Я стояла на пороге и думала, что наша жизнь, это не только тихие, взрослые разговоры с Броником и задушевные беседы с Сильвией. Это ещё и этот вечный, шумный, суетливый гул двух мальчишек, которые пока не вникали в тревожные новости из репродуктора и не спрашивали о будущем. Они просто жили, с азартом и жадностью познавая мир, требуя блинов, падая, мирясь и смеясь.
Они были нашим настоящим. Шумным, липким от варенья, вечно куда-то спешащим и оттого бесконечно дорогим. Нужно было обнять их крепче, вдохнуть поглубже этот запах детских волос и печенья, зарубить на сердце каждую их улыбку. А мы просто жили, не подозревая, что живём в последний раз.
Глава 21. СоседиНаша улица была маленьким миром, где все знали друг друга. Евреи Гольдберги стали нам ближе родни.
Их семья жила в таком же, как у нас, домике, только их фасад всегда был выкрашен в солнечно-жёлтый цвет. Хаим Гольдберг торговал тканями, и от него всегда пахло чем-то новым и свежим. Его жена, пани Ирена, была пышной, шумной и невероятно доброй женщиной. А их дочь Лея стала лучшей подругой моей Сильвии.
Они были ровесницами, двумя струнками, настроенными в унисон. За несколько лет наши девочки успели вырасти. Сильвии уже семнадцать. Прошлым летом она добровольно надела белый халат санитарки в городской больнице. Теперь она шла по улице с сосредоточенным светом в глазах, который бывает у людей, которые учатся облегчать чужую боль. Её документы уже лежали в приёмной комиссии медицинского института, она считала, что её призвание было единственной истиной в мире.
Лея же, в глазах которой всё ещё прыгали озорные искорки, собиралась поступать на филологический. Её густая чёрная коса хлестала по спине, когда она бежала к нам через двор, девушка, застигнутая взрослением в неподходящее время.
Именно так всё и началось, с этого самого двора.
Пани Ирена, зайдя за дочерью, задержалась на чай. Её улыбка в тот день была слишком яркой, жесты, слишком порывистыми.
– Стася, дорогая, ты просто обязана попробовать мой новый штрудель, – говорила она, разворачивая салфетку с пышным, румяным рулетом. – Я добавила немного миндаля и цедру лимона.
Но её глаза метались, ища в моём взгляде подтверждения: всё ещё свои? В воздухе уже витало что-то невысказанное, какая-то новая, колючая тяжесть.
В это время Бронислав, заслышав знакомый скрип двери у Гольдбергов, взял свой ящик с инструментами и отправился её подтянуть. Это было обычным делом в нашем мирке. Идиллия. Хрупкая и почти невозможная.
Когда чаепитие закончилось, девушки, получив по куску штруделя, вышли во двор. Они расселись на скамейке, пытаясь продолжить разговор, но их смех звучал натянуто, а жесты были скованными. Они сидели спиной к дому, будто выставляли себя мишенью, и в то же время пытались спрятаться друг в друге.
Во двор зашли трое старших парней из семьи, что жила напротив. Их отца все побаивались за его скверный характер. Парни, как точное эхо, переняли его повадки. В последнее время они стали смелее, их взгляды, наглее.
Они направились к скамейке. Самый крупный, Яцек, бросил какую-то колкость. Сильвия замолкла, сжавшись. Лея выпрямилась во весь свой уже почти взрослый рост.
Я не различала слов, но видела, как Яцек намеренно толкнул плечом Абрама, сына портного. Тот уронил очки, растерянно ощупывая землю. Парни громко засмеялись.
И тогда Лея, не раздумывая, резко встала и шагнула между Абрамом и обидчиками.
Яцек что-то прошипел Лее. Я без труда прочла по губам одно страшное, уродливое слово: «Жидовка».
И в тот самый миг, когда это отвратительное слово, повисло в воздухе, меня пронзила память. Запах пыли и конского дерьма, перезвон бубенцов…
Я стояла на ослепительном солнце пустыря, а навстречу мне шла высокая женщина в зелёной юбке. «Не бойся, малая. Мир большой. И люди в нём разные».
Потом Яцек повернулся к Сильвии:
– А ты что с этой еврейкой водишься? Ты что, тоже жидовка?
Он схватил Сильвию за запястье, та дёрнулась, будто её ошпарили, и по её лицу потекли слёзы от унижения и ярости.
Я подумала: мир учил меня, что «другие», это те, кто пахнет дымом костров. А теперь он показывал пальцем и шептал, что «другие», это те, с кем нельзя дружить.
Лея выкрикнула что-то в ответ на идише, обняла Сильвию и увела, бросив на скамейке раскрытый медицинский атлас.
Сильвия до самого вечера не проронила ни слова. Она сидела, забившись в угол дивана, и молча смотрела в стену.
На это у меня не было ответа. Только гложущая ярость на Яцека, на его отца, на этот внезапно перевернувшийся мир, в котором дружба стала преступлением.– Мама, – наконец выдохнула она перед сном. – Я целый день учу, как спасать людей. А они… они что, не люди? У меня сжалось горло. Все мои знания о родах, о кровотечениях, о первой помощи – всё было бессильно перед этим простым вопросом. – Они люди, дочка, – сказала я, гладя её волосы. – Просто… больные. Глупостью и злостью. – А Лея? – спросила Сильвия, поднимая на меня мокрые глаза. – Она же лучшая. Почему её надо бояться?
Позже, когда стемнело, я увидела в окно: в жёлтом доме напротив горел свет в кухне. Силуэт Хаима мелькнул за занавеской. Он просто стоял и смотрел в темноту двора, где днём его дочь назвали уродливым словом.
А наша дверь, которую Бронислав сегодня подтянул, скрипнула тише обычного, будто и она научилась бояться.
Глава 22. Уроки ненавистиНовые учебники Сташек принёс домой с гордым видом. Они пахли свежей типографской краской и он аккуратно положил их на край стола.
За ужином Бронислав мрачно ковырял ложкой в тарелке, Сильвия тихо пересказывала что-то Генрику. И тут Сташек, отпив компота, с решительным видом потянулся к стопке книг.
– А нам сегодня новое на истории рассказывали, – объявил он с важностью, отыскивая закладку. – О врагах народа, хотите, почитаю?
Он не дождался ответа и начал читать. Чётко, с вызовом, срывающимся на высоких нотах юношеского максимализма. В тексте говорилось о «чуждых элементах», «вредителях», «паразитах», отравляющих здоровое тело нации. Слова были абстрактными, но смысл был понятен.
Сильвия замерла с поднесённой ко рту ложкой, её глаза стали огромными. Генрик, почувствовав напряжённость и притих.
– Но, мам, это важно! – парировал он, с упоением чувствуя себя причастным к чему-то большому. – Нам велели изучить это с родителями!– Сташек, хватит, – тихо сказала я. – Не за ужином.
Он продолжил, и в тексте уже мелькали откровенно ругательные эпитеты, уже не скрывавшие, о ком именно идёт речь.
Оглушительный стук. Бронислав ударил кулаком по столу и тарелки подпрыгнули.
– Довольно!
Его лицо багровело, а в глазах, слёзы гнева.
– Это не дрянь! Это правда! В школе сказали! В книге! А ты ничего не понимаешь!– Выброси эту дрянь! Немедленно!
Бронислав свирипея резко поднялся. Сташек отпрянул.
– А ты забыл, что им на дверь клеят? Это они виноваты! Во всём!– Выбросить! Чтобы я больше не слышал этой мерзости! Они, люди! Понял? Люди!
Сташек выкрикнул это. С такой ужасающей лёгкостью.
Я встряла.
– Перестаньте! Мы же семья!
Бронислав обернулся ко мне.
– Заткнись. Ты всегда их защищаешь. Может, и ты за них?
Он ударил кулаком по косяку двери, в сантиметре от моего лица. Древесина с хрустом поддалась. Он стоял, тяжело дыша, а я смотрела на его окровавленную руку и чувствовала, как трескается и осыпается наша «крепость». Увидела его ладонь, большую и тёплую, которая когда-то, бережно, как реликвию, замуровывала жестяную коробочку с нашими именами в фундамент этого дома. Та рука строила, а эта, крушила.
У меня перехватило дыхание.
И в тот миг, сквозь нарастающий гул в висках, я почувствовала на языке старый, знакомый привкус петушка, липкого, что когда-то обжёг мне губы своим обманом.
«Грех заключается в его послевкусии. Сладкое становится горьким, едва ты его проглотил».
Мама не кричала тогда. Она поставила огрызок в пустой гранёный стакан на полку. «Это мера. Чтобы ты знала, сколько радости в полправды, и сколько от неё остаётся».
Сташек схватил учебники.
– Я вас ненавижу! Вы, отсталые!
Дверь грохнула.
Бронислав упал на стул. Глухо забормотал что-то, глядя в пустоту, потом провёл ладонью по лицу, будто стирая с себя всё, и гнев, и стыд, и сам этот вечер. Его взгляд, дикий и мокрый секунду назад, потух и ушёл куда-то внутрь. Он медленно потянулся к буфету, где с недавних пор стояла недопитая бутылка самогона. Не глядя налил в стакан. Движение было отрепетированным, почти ритуальным. Он отпил одним долгим, глухим глотком, и только тогда его плечи чуть обвисли.
Генрик заплакал.
Он смотрел на меня испуганными глазами.
– Мама… Почему папа стал злой? Это из-за книжки?
Я не ответила. Обняла его, а сама смотрела туда, где на воображаемой полке стоял стакан с огрызком леденца. Только теперь в нём лежал огрызок нашего доверия и теперь он будет отравлять нас изнутри, и его не выплюнешь.
Глава 23. Время выбиратьЛето 1939 года входило в Лодзь неслышно, просачивалось в щели домов и в трещины между людьми.
За неделю до нашего разговора Ханка стояла в очереди за хлебом. Впереди две женщины громко обсуждали соседа-еврея, портного Абрама. «Вышибли его из мастерской, и правильно», говорила одна. Ханка молчала, сжимая в кармане кошелёк. Она вспомнила, как Абрам когда-то зашил её лучшее платье за кружку молока, потому что у её матери не было денег. Ей стало стыдно и страшно. Она боялась, что кто-то увидит этот стыд на лице, прочитает в её глазах память о той кружке молока. Она повернулась к женщинам и кивнула: – Правильно. Надо порядок наводить. Произнеся это, она почувствовала облегчение. Страх отступил, уступив место твёрдой уверенности.
Ханка сидела в своей уютной гостиной. За окном был уже новый порядок. И в его жёстких линиях была соблазнительная ясность.
В руках переливался моток шёлковой нити. Она зажала его в ладони, а затем, не глядя, стала медленно и методично проводить большим и указательным пальцами сверху вниз, выравнивая шелковые прядки. Движение было безразличным, как если бы она разглаживала скомканный документ, который больше не имеет силы. Нить казалась ей теперь опасной петлёй, способной затянуться и удушить.
В голове выстраивалась новая, чёткая картина мира. Она называла это взрослением.
– Стася не понимает, думала она, ощущая прохладу шёлка. Она всё ещё живёт в том саду, где можно дружить с кем попало, лечить всех подряд. Её сердце, старомодный, щедрый кошелёк, который развязывают перед каждым встречным, а мир стал другим. Он требует бережливости и учётности.
Она думала о Лее. Не о девушке с умными глазами и книгой, а о слове, которое теперь за ней стояло, «Еврейка». В новом лексиконе это звучало, как диагноз. Чужеродность.
– И Сильвия с ней водится. Такая способная девочка и такая слепая, как её мать. Кто, если не я, откроет им глаза? Иногда жестокость, это лишь форма заботы. Хирургическая точность.
Она с досадой отложила нить. Эти сентиментальные путы пора было обрезать, детство кончилось. Наступило время выбирать: либо ты цепляешься за призраки, либо делаешь шаг в новый, сильный мир. Мир, где всё расставлено по полочкам. Где есть «мы» и «они» и где «они», причина всех бед.
Её миссия виделась ей спасением. Она должна была «образумить» Стасю, оградить Сильвию, вернуть их в круг «порядочных людей». Да, это будет больно. Но разве хирург щадит ткань, чтобы вырезать опухоль?
Она подошла к окну. За стеклом лежал новый мир, подчинённый железной логике. Мир, который она училась понимать и принимать.
Повернувшись, она снова взглянула на нить, лежавшую на столе, как забытый артефакт из другой жизни.
– Я делаю это для тебя, Стася, мысленно проговорила она, чтобы выжили ты и твои дети. Чтобы вы не утонули, пытаясь спасти тонущих.
Решение созрело в холодной и уверенной ясности. Она знала, что должна сделать. И её рука, когда она завтра постучится в дверь к Стасе, не дрогнет.
Глава 24. Август 1939К концу 30 годов, привычная ткань нашего лодзинского мира начала расползаться по швам. Сначала тонкими, едва заметными нитями, как паутинка мороза на ночном окне. Потом нити превращались в щели. Щели, в трещины. Трещины в зияющие чернотой провалы. И над всем этим висел тихий, навязчивый стук. Словно кто-то незримый методично долбил в фундамент нашего бытия. Все слышали, но никто не смел открыть. В лавке пани Ванды, где прежде звенели монеты, громко торговались за картошку и оглашали стены свежими сплетнями, поселилась новая тишина. Выжидающая. Женщины говорили, приглушив голоса, и прежде чем коснуться «главного», их быстрый взгляд, метался к двери.
– Всё из-за вестей… вплетался шепот пани Зофьи. – За границей, в Германии… Мобилизация. Учения у самой границы…– Сахар… опять в цене подрос, вздыхала пани Ванда, завязывая жалкий кулечек с крупицами сладости. Голос ее скрипел, как несмазанная дверь. – Скоро и вовсе не станет. Сметут, пока есть что сметать. – А мыло? подхватывала пани Ядвига, обернувшись, будто боясь эха. – Муж слыхал: на Пётрковской выносят мешками, будто перед концом света.
Я прижимала к груди холщовую сумку и чувствовала, как под ложечкой застывает предчувствие.
Дома тревога пустила корни в стены.
Броник, садился у радио, впитывая сводки. Скулы нервно дергались. Сильвка прижималась ко мне втихомолку, ища защиты от невидимого холода. Сташек горячился в спорах с отцом, прикрывая тот же обжигающий холод паники, что клубился и во мне. Генрик же спрашивал прямо, глазами, полными тоски:
– Правда, мама? Война, это самое страшное?
Но Броник стал моей отдельной, острой тревогой. Днем, студент в белом халате, бегающий по коридорам больницы. Ночью, призрак. Возвращался под утро, пахнущий сыростью подполья и едкой гарью типографской краски. В карманах его потрепанного пальто я находила обрывки газетной бумаги, испещренные дерзкими буквами. Он отмахивался, избегая взгляда:
– Конспекты, мама, для работы.
Правда всплыла, как грязь со дна: он с товарищами печатал листки. Листки, обличавшие новых «патриотов», чьи речи шипели ядом ненависти. Распространял их, как семена правды.
– Если молчать, зло заполнит всё, говорил он тихо, глядя куда-то поверх меня, в будущее, которое видел яснее нас. – Оно уже марширует там, за горизонтом. Шаг за шагом и мы должны быть готовы.
Бронислав вернулся с фабрики расстроенным.
– Левицкого… уволили. За то, что еврей. Двадцать лет у станка…
Голос сорвался, но в его глазах, я читала страшную ясность: трещины под ногами разверзаются в бездны.
Ночью я сидела у окна, держала в руках старый мамин фартук, реликвию, талисман ушедшего покоя. Слышался беззаботный храп Генрика, шелест переворачивающейся Сильвии, приглушенный, напряженный рокот голосов Броника и Сташека за тонкой стеной. Голоса заговора.
Той ночью сон пришел ко мне тяжелым видением: сад, знакомый до каждой травинки, опутан колючей проволокой, ржавой и зловещей. Над ним кружили черные птицы с железными крестами вместо перьев на крыльях. Они закрывали солнце, бросая на землю ледяную тень.
Я проснулась с рассветом, и в груди было безжалостное знание: буря на пороге. И всё, что мы с любовью возводили, дом, семью, покой, придется платить иной ценой.
Но даже в этой сгущающейся тьме теплились огоньки. Люди, которые не опускали глаз, смотрели опасности в лицо, когда удобнее было отвернуться. Подавали руку, рискуя, когда безопаснее было пройти мимо. Я еще не ведала, что скоро выбор встанет и перед нами с Брониславом, пропустить этот стук мимо ушей или открыть дверь, зная, что за ней может быть гибель.
В подвале пахло сырой землёй и было тесно. Генрик молча строил баррикаду из пустых ящиков и старого тряпья. Сташек стоял у двери, прильнув ухом к шершавой древесине. Броник, прислонившись к косяку, вглядывался в щель между ставнями. Никто больше не говорил о кораблях, их детство кончилось. Теперь они рассчитывали не ходы в игре, а толщину стен и шаги на улице.
А пока мы варили похлебку, штопали носки, спорили о пустяках. Где-то в самой глубине, под слоем будней, уже пустило корни странное, неистребимое чувство страха.
Глава 25. Последний урожайТот август 1939 года был до неприличия щедрым. Солнце растеклось по небу, вытягивая из земли последние соки. Сад буйствовал как перед концом света, яблони гнулись под тяжестью плодов, такие румяные и безупречные, что рука не поднималась их сорвать. Смородина лопалась от тёмных тугих ягод, а малина, обычно уже отходившая, вторично полезла по забору, алая, как капли крови из открытой раны.
Но настоящей, зловещей роскошью были паутины. Они клубились в углах забора и на яблонях, будто невидимый прядильщик заворачивал в эти саваны весь наш прежний мир. Даже ветер не решался их сорвать, лишь бессильно раскачивал, словно готовые погребальные флаги.
Мы с Брониславом собирали урожай. Вернее, я собирала, а он сидел на заборе, глядя куда-то поверх моей головы. От этого предгрозового напряжения трещали виски и медленнее билось сердце.