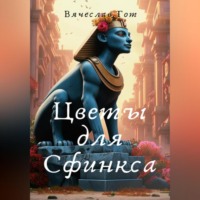Полная версия
Чёрный самурай. Печать мёртвых

Вячеслав Гот
Чёрный самурай. Печать мёртвых
Пролог: Последний удар
(– Он не пал в бою. Он пал в доверии.)
Воздух над плахой дрожал – не от жары, а от ожидания.
Над городом Хэйгэн-но-Мияко висела тишина, плотная, как пепел после пожара. Небо – серое, без единого намёка на солнце, будто само Небо отвернулось. Никаких птиц. Ни единого крика торговца, ни шелеста шёлка, ни детского плача. Только тяжёлое дыхание тысячи зрителей, собравшихся у холма Судьбы – места, где клан Асахи вершил правосудие не мечом закона, а лезвием унижения.
Там, на возвышении из чёрного базальта, выструганного под точную копию алтаря древнего храма Хатима, стояла плаха. Не деревянная – нет, это было осквернение священного: плита из мрамора, вывезенного с развалин старого храма предков, с выбитым по центру запечатывающим символом – перевёрнутая печать клана Асахи, вписанная в круг само пожирания. Кто-то втайне полил её солью три ночи подряд. Кто-то знал, что сегодня здесь умрёт не преступник. Здесь умрёт жертва.
На коленях перед плитой – Кагэцу.
Его не связывали. Не нужно.
Он – бывший Первый Страж клана Асахи, хранитель Внутренних Врат, учитель дзэн-воинов, защитник Северных границ от Ёкай-Кланов – сам пришёл сюда в полном облачении. Не в доспехах. В чёрном кимоно без герба, подпоясанном белым шёлковым поясом – цветом траура по себе. На голове – ни платка, ни повязки. Только седые пряди, выбившиеся из строгого узла, падали на лоб, словно последние струйки дыма с гаснущего костра. Его руки – спокойно сложены на коленях. Спина – прямая, будто выточена из кедра. Лицо – без выражения. Ни гнева. Ни страха. Только глубокая, почти геологическая усталость.
Он не смотрел на толпу. Не искал глазами тех, кто предал. Не искал её – дочь, Аяме, которую увезли прочь ещё три дня назад, когда его бросили в подземелье «Тени». Он смотрел вперёд – на горизонт, за которым когда-то, десять лет назад, вместе с ней собирал цветы цикламена под луной, рассказывая, как луна – не богиня, а отражение души мира, и как даже самая тёмная ночь оставляет след на воде.
– Кагэцу из рода Хадзимэ… – голос верховного судьи, старого Даймё Сионодзи, прозвучал, как скрежет камня по кости. – Ты обвиняешься в государственной измене, в предательстве воли клана, в сговоре с демоническими силами Сумеречного Предела и в убийстве двух высших советников. Признаёшь ли ты вину?
Тишина.
Но не пустая. В ней – гул. Тысячи сердец, бьющихся в такт одному ритму: виновен, виновен, виновен.
Кагэцу медленно поднял голову.
Его глаза – тёмные, почти чёрные, с лёгким янтарным ореолом у зрачка – не горели. Они впитывали. Впитывали страх стражников, стоящих на расстоянии трёх шагов, будто боясь, что его дыхание заразит. Впитывали лицемерное сожаление старших самураев, опустивших взгляды в землю. Впитывали торжество Рё – его бывшего ученика, стоящего у правой руки Даймё, с новым гербом Асахи на плече и холодной улыбкой на губах.
– Я признаю, – сказал Кагэцу. Голос – низкий, ровный, без дрожи. – Я виновен.
Шум толпы вспыхнул – не радостный, а испуганный. Так реагируют, когда зверь в клетке вдруг говорит на языке человека.
– Я виновен в том, что доверял. В том, что верил – честь – не слово для летописей, а дыхание в каждом поступке. В том, что учил Рё: «Клинок – последнее слово. Первое – всегда – вопрос». А он не спросил. Он выбрал – и выбрал не правду.
Он слегка повернул голову. Взгляд – не на Рё. На Даймё.
– Я виновен в том, что не убил вас, Сионодзи-сама, когда вы впервые заговорили о «необходимом грехе». Когда вы сказали: «Мир держится не на правде, а на её отсутствии».
Сионодзи не дрогнул. Но его пальцы, лежавшие на рукояти церемониального тантё, побелели.
– Хватит! – рявкнул он. – Приговор вынесен. Имя Кагэцу будет вырезано из Свитка Предков. Его земли – конфискованы. Его дом – сожжён. Его дочь – передана в храм молчания. И с этого мгновения – никто не скажет его имени вслух. Он – Тот, Кто Пал. Нет имени. Нет рода. Нет будущего.
Палач – высокий, закутанный в чёрный балахон без лица – вышел вперёд. В руках – дайсё, но не его собственное. Это был меч клана Асахи, Асахи-но-Кагэ («Тень Рассвета»), – церемониальный клинок, которым рубили только предателей высшего ранга. Лезвие – полированное до зеркального блеска, но по спускам, невидимо для глаза, шли микроскопические надписи: имена всех, кого когда-либо казнили этим мечом. С каждым ударом они питались стыдом умирающего.
Палач занёс клинок.
Движение – без пафоса. Не театр. Не месть. Обязанность.
Кагэцу закрыл глаза.
Не в молитве.
В воспоминании.
Он видел:
– Руку дочери в своей, маленькую, горячую, как птица в ладони, когда она впервые держала бамбуковую палку.
– Лицо жены в последний вечер – не гневное, не плачущее. Только вопрос: «Ты уверен, что это они лгут… а не ты сам – себе?»
– Рё, юношу семнадцати лет, с горящими глазами, повторяющего клятву Стража: «Я – щит. Я – тень. Я – последнее дыхание правды».
– И ту ночь, десять дней назад, в зале Совета, когда он, Кагэцу, не вытащил меч, услышав ложь Рё. Потому что не мог поверить – не в ложь. В глубину, до которой ложь уже докопалась.
– Прости меня, Аяме… – прошептал он не губами – душой.
И в этот миг – вспышка.
Не света.
Осознания.
Они не хотели его смерти.
Они нуждались в его нечистой смерти.
Смерть в бою – чиста. Даже смерть от яда – достойна. Но казнь за предательство, совершённое по ложному доносу… Это – разрыв в ткани мира. Это – дверь, которую можно толкнуть изнутри.
И вдруг – он понял, что стоял не на плахе.
Он стоял на границе.
Лезвие пошло вниз.
Медленно.
Очень медленно.
Как будто воздух превратился в смолу.
Кагэцу открыл глаза.
И увидел:
Капля пота на лбу палача – повисла в воздухе, дрожащая, но не падающая.
Пылинки – застыли, как звёзды в ночи.
Ветер – не шевелил ни единой нити на кимоно.
Даже тень палача на мраморе – остановилась, будто отрезанная ножом.
Время замирало не вокруг него.
Время замирало – ради него.
Он почувствовал – не тело. Поток.
Поток того, что не должно существовать между мирами. Ни в Ями (мире мёртвых), ни в Ацука (мире живых), ни в Такама-но-Хара (небесном чертоге). А между – в Хаку-но-Кэн – «Бездне Промежутка», куда попадают души, умершие в незавершённом акте. Не герои. Не злодеи. Жертвы лжи.
И там, в этой Бездне, где нет ни тьмы, ни света, а только вибрация неисполненной клятвы, – что-то открыло глаза.
Не глаза плоти.
Глаза Суда.
Кагэцу почувствовал – как его тело распадается. Не на плоть и кость. На импульсы. На слова. На клятву, произнесённую в последние мгновения.
Он не шептал. Он вырвал из глубины, где душа соприкасается с вечностью:
– Пусть мой дух сгниёт в промежутке миров…
Пусть мои кости станут пылью забвения…
Пусть моё имя исчезнет из памяти богов…
Но я вернусь.
Не как призрак. Не как мститель.
Как печать.
Как удар, который не был нанесён.
Как гром, который не прозвучал.
Я вернусь – и вырву сердца из тех, чьи ложь и жадность породили тьму.
Не ради мести.
Ради баланса.
Пока хоть один грех останется без суда – я не умру.
Я буду – Чёрным Самураем.
В тот миг лезвие коснулось шеи.
Но не врезалось.
Оно провалилось.
Как в воду.
Как в дым.
Как в пустоту.
Кагэцу почувствовал – не боль. Разрыв.
Его тело не упало. Оно рассыпалось – не в кровь и кость, а в тени, в звуки, в запах горелой вишни, в воспоминание о луне над рекой.
Последнее, что он увидел – лицо Рё.
Не триумф.
Страх.
Чистый, первобытный.
Потому что Рё понял:
Это не конец.
Это – печать, только что поставленная на мир.
И она – не на Кагэцу.
Она – на них всех.
На плахе осталась только тень.
Чёрная, густая, как смола.
Она не повторяла контуры тела. Она пульсировала – медленно, в такт неведомому сердцу.
Потом – стекла вниз по мрамору, как капля дёгтя, и впиталась в трещину у основания плиты – ту самую, что образовалась, когда Кагэцу встал на колени.
Там, в глубине камня, тень свернулась кольцом.
И заснула.
Над холмом Судьбы ветер вдруг тронулся.
Первая пылинка упала.
Капля пота скатилась по лбу палача.
Рё поднял руку – и вытащил из-за пояса свиток. Белый. Без герба.
Он раскрыл его дрожащими пальцами.
На пергаменте – одно предложение, написанное чёрной, почти фиолетовой тушью, будто выжженной:
«Он не пал в бою. Он пал в доверии. И это – начало».
Рё сжал свиток.
Где-то далеко, под землёй, в древней шахте, где когда-то добывали камень памяти, – в стене, покрытой мхом, треснул один из глиняных амулетов.
Из трещины сочилось не масло.
А тень, похожая на гниющий янтарь.
Она медленно стекала вниз.
И в ней, на миг, мерцнуло отражение —
– мужчина в чёрном, стоящий перед плахой.
С новыми трещинами на коже.
С глазами, полными не гнева – а решимости.
С рукой, сжимающей меч, который ещё не был найден.
Глава 1: Предел Дзюдзё
(«Там, где душа ушла, а тело осталось – начинается гниль»)
Он вспомнил, как умирает пламя.
Не гаснет. Не вспыхивает в последний раз. Оно – проваливается внутрь себя, сжимается в точку, в уголь, в тлеющее ядро, которое ещё не забыло, что было огнём.
Так и он.
Сначала – тишина. Не пустота. Не мрак. Тишина, как в утробе камня. Ни мыслей. Ни воспоминаний. Только ощущение границы – тонкой, как волос, между был и не стал.
Потом – боль.
Но не плоти.
Боль формы.
Как если бы кто-то взял его сознание – чистое, без тела, без имени, – и впихнул обратно в глину, ещё не обожжённую, ещё не готовую. Каждая клетка сопротивлялась. Каждая трещина в костях, каждый разорванный нерв – кричали: «Это не твоя оболочка!»
Он открыл глаза.
Не веки поднялись. Глаза – зажглись.
И перед ним – не небо. Не земля.
А Дзюдзё.
Деревня, где он родился. Где учился держать бамбуковую палку. Где впервые поцеловал девушку (запах рисового вина и жасмина в её волосах). Где хоронил отца – под вишнёвым деревом, которое теперь…
…теперь стояло.
Целое.
Но мертвое.
Дома – не разрушены. Ни пожара, ни боя. Крыши – целы. Стены – прямые. Даже фонари у ворот – горели. Жёлто-оранжевым, ровным светом.
Но в этом свете не было тепла.
Оно не отбрасывало теней.
Оно поглощало их.
Кагэцу поднялся на ноги.
Движение – без усилия. Ни дрожи в коленях. Ни хруста в суставах. Он встал – и сразу знал: тело – его. Но не то.
Он посмотрел на руку.
Кожа – чёрная. Не загорелая. Не загрязнённая. Обожжённая изнутри. Плотная, как кора старого дуба, покрытая сетью трещин – глубоких, извилистых, словно молнии, застывшие в камне. Из них сочилась субстанция – густая, маслянистая, цвета гниющего янтаря: тускло-жёлтая с зеленоватым отливом, мерцающая в такт неведомому пульсу. Она не капала. Не стекала. Она пульсировала, будто дышала.
Он прикоснулся пальцем к трещине на груди – там, где раньше билось сердце.
Ничего.
Ни удара. Ни тепла. Ни холода.
Только вибрация – далёкая, как эхо землетрясения за горами.
Он сделал шаг.
И почувствовал.
Не ногами.
Всем существом.
– Ложь.
Острая, как заноза под ногтем. Где-то слева – за изгородью из бамбука – кто-то врал себе: «Я не предавал. Я просто… выжил».
– Зависть.
Горячая, вязкая, как смола. В доме с синей черепицей – женщина смотрела на соседку и думала: «Пусть её ребёнок заболеет. Пусть её муж уйдёт. Лишь бы я не была последней».
– Страх.
Сухой, дребезжащий, как кости в мешке. В погребе под рисовым складом – мужчина, зажав рот ладонью, шептал: «Только не я. Только не сегодня. Пусть заберут другого».
Каждый грех – не мысль. Не эмоция.
Физический импульс.
Как удар в висок. Как спазм в горле. Как пульс – чужой, навязанный, бьющий в его собственных венах.
Он слышал мир не ушами.
Он чувствовал его кожей.
Он пошёл вдоль главной улицы.
Мимо дома старого кузнеца.
Кузнец стоял у наковальни. Молот в руке. Угли в горне – красные. Но молот не поднимался. Рука застыла в движении. Глаза – открытые. Но в них – ничего. Ни мысли. Ни боли. Ни даже животного инстинкта. Только пустота, гладкая, как стекло.
Кагэцу подошёл ближе.
И увидел.
На шее кузнеца – тень, но не от его тела. Она пульсировала. Под кожей. Как живой угорь, свернувшийся кольцом вокруг позвоночника. Иногда она выдавливалась наружу – на миг, – и тогда на коже проступал узор: три крючка, сходящихся в центр, как лапы скорпиона.
Ёкай-паразит. «Касуга-Но-Коро» – «Пиявка Молчания».
Рождён из страха перед правдой.
Поселяется в гортани, глушит голос, а потом – и волю. Хозяин становится марионеткой, повторяющей одни и те же действия, пока тело не истощится и не упадёт. Тогда паразит переползает в другого – того, кто молчал, когда нужно было говорить.
Кагэцу протянул руку.
Не чтобы коснуться.
Чтобы ощутить.
Когда его пальцы приблизились на ладонь – паразит вздёрнулся.
Изо рта кузнеца вырвался звук – не стон. Хрип, как будто кто-то душит змею.
Тень на шее потемнела, стала почти чёрной.
Кагэцу узнал этот грех.
Не кузнеца.
Его собственный.
– Ты знал, что Рё лжёт. Но не заговорил. Потому что боялся – правда разрушит клан. Потому что верил: «Пусть лучше ложь устоит мир, чем правда разнесёт его в прах».
Он отвёл руку.
Кузнец замер. Молот повис в воздухе.
Кагэцу пошёл дальше.
Мимо дома учителя.
У двери – ребёнок лет шести. Стоит. Смотрит в землю. В руках – деревянная кукла. Голова куклы – оторвана.
Ребёнок не плачет. Не шевелится.
Кагэцу подошёл.
На виске мальчика – пульсирующий узелок, размером с перепелиное яйцо. Под кожей – что-то вертится, как личинка в гниющем фрукте.
«Нака-Но-Муси» – «Червь Внутреннего».
Порождён детской виной, навязанной взрослыми.
– «Это твоя вина, что мать ушла».
«Если бы ты был тише – отец не ударил бы её».
«Ты – наказание за наши грехи».
Червь питается самообвинением. Постепенно «пережёвывает» личность, оставляя только повиновение.
Кагэцу опустился на колени.
Ребёнок не поднял глаз.
Но когда Кагэцу протянул руку – не к нему, а к кукле, – мальчик вздёрнул голову.
В глазах – не страх.
Надежда.
Миг – и она исчезла. Глаза снова стали пустыми.
Но Кагэцу уловил этот миг.
И в нём – отзвук.
Не греха.
Сопротивления.
Где-то глубоко, под слоями паразита, душа ребёнка бьётся.
Как птица в закрытой коробке.
Кагэцу взял куклу.
Голова – отломана чисто. Не ребёнком. Взрослым.
Он медленно соединил голову с телом.
Ничего не произошло.
Но когда он положил куклу обратно в ладони мальчика —
– Трещина на его собственном запястье расширилась.
Из неё вырвалась струйка гниющего янтаря – и, как живая, потекла к кукле.
Капля упала на шею игрушки.
Древесина потемнела.
Голова приросла.
Ребёнок моргнул.
Один раз.
Потом – снова застыл.
Но теперь в его пальцах – целая кукла.
И на её лице – улыбка, вырезанная чужим ножом.
Кагэцу встал.
Он понял: он не может вылечить.
Он может только запечатать.
На время.
Ценой собственного распада.
Он дошёл до центра деревни – площади перед храмом Синто.
Храм стоял.
Но ворота Тории – чёрные. Не от пожара. От внутренней тьмы. Их краска не облезла. Она впитала свет.
Перед воротами – фигура.
В дорогом, но поношенном кимоно цвета высохшей крови. Седые волосы собраны в тугой узел. Лицо – благообразное, с глубокими морщинами у рта – следами частых улыбок. В руках – не посох, а черенок от граблей, обмотанный шёлковой лентой.
Господин Тэндзё.
Бывший советник клана Асахи. Учёный. Мудрец. Тот, кто первым похлопал Кагэцу по плечу после битвы у реки Суми. Тот, кто шепнул Рё: «Он слишком честен. Честность – слабость в политике. Особенно – у воина».
Тэндзё улыбался.
– А, Кагэцу-сан… – его голос – мягкий, как шёлк, но в нём – металлический привкус, как от крови во рту. – Какой сюрприз. Я слышал, вас стирают. Даже из памяти камней. А вы… вернулись. И в таком… необычном виде.
Кагэцу не ответил.
Он чувствовал.
Не ложь.
Грех.
Густой. Зрелый. Гнилостный.
Из груди Тэндзё пульсировала тьма – не тень. Сгусток.
Он был видим только Кагэцу.
Форма – неясная. Но ощущение – острое:
– Жадность, маскированная под заботу. («Я управлял кланом ради его блага»).
– Зависть, притворяющаяся мудростью. («Он получил честь, которую заслуживал я»).
– Гордыня, одетая в смирение. («Боги дали мне понимание – значит, я должен править»).
Из этого сгустка – выползало нечто.
Медленно.
Скользя по земле, как слизень по камню.
Толстое, кольцеобразное, с блестящей, маслянистой кожей, покрытой чешуёй из обломков зеркал. Головы – нет. Только рот – огромный, по всей длине тела, усеянный зубами из обожжённого фарфора. Внутри – не горло. Множество маленьких глаз, мигающих в такт мыслям Тэндзё.
Куру-Но-Они – «Червь Гордыни».
Первый демон.
Рождён не из древнего зла.
А из единственного, но глубокого греха одного человека.
– Он, красив, не правда ли? – прошелестел Тэндзё, глядя на червя с нежностью отца. – Я вырастил его десять лет. Кормил сомнениями других. Поливал завистью соседей. Утеплял ложью учеников… А когда он созрел – впустил его в себя.
Червь поднял переднюю часть туловища.
Рот раскрылся.
Из него вырвался не звук.
Голос – но не один.
Сотни голосов.
Голоса тех, кто поверил Тэндзё. Кто подчинился. Кто отдал свою волю за обещание безопасности, почёта, спокойствия.
– «Вы правы, господин Тэндзё…»
«Кагэцу слишком прямолинеен…»
«Лучше ложь от мудреца, чем правда от глупца…»
Каждое слово – как игла в ухо Кагэцу.
Потому что он слышал в них – свой собственный голос.
Тот, что молчал в зале Совета.
– Он питается честолюбием, – продолжал Тэндзё, делая шаг вперёд. Червь – за ним, как верный пёс. – Не вашим, Кагэцу-сан. Моим. Моё честолюбие – чище. Оно – ради порядка. А вы? Ваше – ради себя. Ради своей… чести. Пустое слово. Пыль на мече.
Он поднял руку.
Червь вздрогнул.
И вдруг – бросился не на Кагэцу.
А в землю.
Исчез.
Потом – взрыв.
Из-под площади вырвались десятки щупальцев – тонких, как бамбуковые прутья, но покрытых той же зеркальной чешуёй. Они вонзились в дома вокруг. В стены. В двери. В людей, стоящих в окнах.
И в каждого – впрыснули по капле чёрной слизи.
Люди не кричали.
Они изменились.
Глаза – стали зеркальными.
Рты – растянулись в одну и ту же улыбку – широкую, беззубую, как у куклы.
Они вышли из домов.
Медленно.
Синхронно.
И встали кругом, окружая Кагэцу и Тэндзё.
Их дыхание – отсутствовало.
Их сердца – не бились.
Но в их грудях – пульсировал маленький, уменьшенный Куру-Но-Они.
Тэндзё расправил плечи.
– Деревня Дзюдзё – теперь мой сад. Каждый здесь – плод моей мудрости. Они не страдают. Не сомневаются. Не выбирают. Они – гармония.
Он посмотрел на Кагэцу.
– А вы, Кагэцу-сан… вы – сорняк.
– Ты не вырастил сад, – наконец сказал Кагэцу. Голос – не его. Глубже. Хриплее. Как будто говорил не он, а печать на его груди. – Ты построил могилу. И похоронил в ней живых.
– Жить – значит страдать, – парировал Тэндзё. – Я дал им покой.
– Покой мёртвых – не дар. Это кража.
Тэндзё усмехнулся.
– Тогда верни им страдание, Чёрный Самурай. Попробуй.
Он щёлкнул пальцами.
Круг людей сдвинулся.
Щупальца червя – впились в их спины.
Из их ртов – вырвался хор:
– «Мы счастливы.
Мы послушны.
Мы – ничто.
Мы – всё.
Слава господину Тэндзё!»
Звук – не голоса.
Вибрация.
Она врезалась в череп Кагэцу, как молот в колокол.
Трещины на его теле вспыхнули – янтарь внутри стал ярче, почти белым.
Боль – острая, как раскалённая проволока под кожей.
Он понял: это не атака.
Это – проверка.
Куру-Но-Они не хотел его убить.
Он вызывал его.
– Ты чувствуешь? – прошипел Тэндзё, приближаясь. – Это – согласие. Тысяча голосов, говорящих одну правду. Тысяча душ, нашедших покой. Разве это не прекрасно?
Кагэцу опустил взгляд на свои руки.
Трещины расходились.
Из них сочилось не только янтарь – теперь в нём плавали искры – крошечные, как угольки.
Искры его собственной когда-то горячей веры.
Он вспомнил:
– Слова учителя дзэн: «Даже в лжи есть частица истины – иначе она бы не прижилась».
– Лицо жены: «Правда – не меч. Она – вода. Она не рубит. Она – находит трещину. И входит».
Кагэцу не вытащил меча.
Он ещё не знал, где он.
Но он знал – где не искать.
Не в гневе.
Не в отрицании.
А в признании.
Он поднял голову.
Посмотрел Тэндзё в глаза.
– Ты прав, – сказал он.
Тэндзё замер.
– Ты действительно дал им покой.
Господин советник нахмурился.
– Но ты ошибаешься в цене.
Кагэцу сделал шаг вперёд.
Люди-зеркала зашевелились, но не напали.
– Ты не убил их души.
Ещё шаг.
– Ты отрезал их.
И – третий шаг.
– И спрятал в себе.
Он остановился в трёх шагах от Тэндзё.
– Где они, Тэндзё?
Советник побледнел.
– В… в порядке. В гармонии…
– Где они? – голос Кагэцу ухнул, как удар колокола в пустом храме.
Тэндзё отступил.
И в этот миг —
Куру-Но-Они вырвался из земли прямо между ними.
Не атакуя.
Раскрываясь.
Его тело – развернулось, как свиток.
И внутри – не внутренности.
Лица.
Сотни лиц.
Дети. Старики. Женщины. Мужчины.
Все – из Дзюдзё.
Все – с глазами, полными слёз, но ртами, сшитыми чёрной нитью.
Они молчали.
Но их глаза кричали.
И в каждом крике – имя Кагэцу.
Не как мстителя.
Как того, кто обещал защищать.
Кагэцу узнал их всех.
И узнал – он не помнил этих имён последние годы. Заглушил. Забыл.
Предал.
Он опустил голову.
Не в стыде.
В принятии.
– Прости меня, – прошептал он. Не им. Себе.
И тогда —
Трещина на его груди лопнула.
Из неё вырвался столб света – не янтарного. Золотого.
Чистого.
Как утренний луч над горой Фудзи.
Свет коснулся лиц внутри червя.
Где-то – нить на губах треснула.
Где-то – глаз моргнул.
Куру-Но-Они взвыл – не звуком, а искажением воздуха, как будто реальность рвалась по швам.
Он свернулся, пытаясь спрятать души.
Но было поздно.
Кагэцу поднял руку.
Не в ударе.
В жесте, которым когда-то благословлял учеников.
– Я не пришёл убивать тебя, Тэндзё.
Советник дрожал.
– Я пришёл вернуть то, что ты украл.
И тогда —
Из земли, у его ног, вырвался меч.
Не Асахи-но-Кагэ.
Не церемониальный клинок.
Простой, потрёпанный сюрикэн-меч – тот самый, что он носил в походах. Тот, что не бросил, когда его увели в плен. Тот, что зарыл здесь, у вишнёвого дерева, в день, когда ушёл служить клану.
Клинок – покрыт ржавчиной.
Но по лезвию – та же сеть трещин.
Из них сочилась та же гниющая янтарная субстанция.
Кагэцу схватил рукоять.
И в тот миг —
Мир вздрогнул.
Все зеркальные люди упали на колени.
Куру-Но-Они – заклубился, как дым.
Тэндзё – закричал, хватаясь за грудь.
– Нет! Ты не имеешь права! Ты – ничто! Ты – вычеркнут!
Кагэцу поднял меч.
Лезвие – не отражало свет.
Оно впитывало тени.
– Я – Печать Мёртвых, – сказал он. – И я запечатываю твой грех.
Он не рубил.
Он касался кончиком клинка груди Тэндзё.
И —
Вспышка.
Не взрыв.
Извлечение.
Из груди советника вырвалась чёрная сгусток – не кровь. Сгусток зависти, лжи, гордыни.
Он повис в воздухе.
Кагэцу вонзил меч в него.
И повернул.
Как ключ в замке.
Сгусток лопнул.
Из него – хлынули лица.
Сотни.
Они взлетели в небо – не призраки. Искры.
И исчезли – не в небе.
В воспоминаниях живых.
Те, кто стоял на коленях, – задрожали.
И один – плюхнул лбом в землю.
– Простите… – прошептал он.
Потом – второй.
Третий.