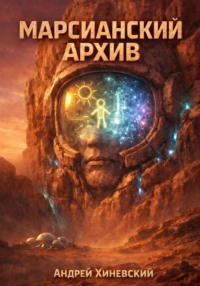Полная версия
Жнец

Андрей Хиневский
Жнец
Сначала ты борешься, чтобы вырваться из ямы.
Потом – чтобы не упасть обратно.
А потом понимаешь, что вся твоя жизнь – это баланс на краю той самой ямы.
Касиус (ЖНЕЦ) Маланго
ГЛАВА ПЕРВАЯ БУЙВОЛ (2005)
На холме над Кейптауншипом хоронили Грейс Маланго.
Земля была не чёрной, а рыжей, будто её вскрыли по живому. Ветер гнал по склону пыльные вихри и нес с собой два запаха – сладковатый дым горящих свалок и едкую соль Атлантики. Казалось, сама земля выдыхала нищету и дальние пути, которые никуда не вели.
Касиус стоял у края могилы, и дорогой шерстяной пиджак жёг ему плечи, как униформа предателя. Он был одет для парламента, для телекамер, для мира, который лежал внизу, за стеклом лимузина. Здесь же, на холме, его окружали лица, вырезанные из того же красного дерева, что и крест на гробу. Народ маланго. Его народ. Они молчали. Их молчание было гуще и тяжелее любой панихиды.
Он искал глазами мать. Элоиза стояла чуть поодаль, прямая и сухая, как терновый кол. Она смотрела не на гроб дочери-активистки, погибшей при «несчастном случае» во время разгона протеста. Она смотрела куда-то сквозь сына, в ту точку, где должен был быть просто её мальчик Кейси, а не Касиус «Жнец» Маланго, чемпион в чужом костюме.
К нему подошёл Нгози. Старейшина двигался бесшумно, его лицо, испещрённое ритуальными шрамами-знаками рода, напоминало карту высохшей реки.
– Касиус, который вернулся к нам в героях, – проскрипел Нгози на языке маланго, не глядя на него. Его глаза были прикованы к простому сосновому ящику. – Ты дрался за золотые пояса. Они весят столько же, сколько совесть чиновника. Грейс дралась за то, чтобы земля под нашими ногами не воняла чужим дерьмом. Скажи же мне теперь: кто из вас мёртв, а кто просто ходит, не чувствуя земли?
Слова упали не как укор, а как приговор. Диагноз. Не чувствуя земли. Он посмотрел на свои руки. На костяшки, сведённые старыми переломами, на кожу, натёртую бинтами. Эти руки чувствовали удар, пружину канатов, вес перчатки. Но земли… Нет. Земли под ногами он не чувствовал с тех пор, как старый Брэдли вытащил его из этой пыли и сказал, что у него «дар». Дар быть оружием.
К микрофону уже шёл человек от правящей партии костали, с бумажкой в руках. У него было лицо человека, собирающегося произнести слово «трагедия» и «непременное расследование». Лицо лжи, отлакированной дешёвым лаком соболезнования.
Что-то щёлкнуло внутри Касиуса. Не громко. Тише, чем щёлчок выключателя. Звучнее, чем ломающаяся кость.
Он сделал шаг вперёд. Ещё один. Его шаги по рыхлой земле отдавались в звенящей тишине гулко, мертво. Он взял чиновника за локоть – не грубо, но с такой неоспоримой силой, что тот отшатнулся, выпустив из рук листок. Бумага упала в красную пыль.
Касиус поднял микрофон. Взял его так, как брал когда-то кулаком боксёрскую грушу перед решающим ударом. Он обвёл взглядом толпу. Тысячи глаз. В них не было ожидания слов. Словами их кормили четыреста лет. В них была пустота. Чёрная, бездонная пустота отчаяния, в котором уже не осталось даже злости.
Тогда он отшвырнул микрофон прочь. Тот, взвизгнув на прощанье, шлёпнулся в грязь.
И ударил себя кулаком в грудь.
Раз.
Звук был глухой, плотный, как удар палкой по натянутой шкуре. Тум.
Пауза. Ветер выл.
Второй удар. Сильнее. ТУМ.
В третьем ряду вздрогнул подросток в рваной футболке. Повторил жест. Рядом с ним старуха, не отрывая взгляда от Касиуса, начала медленно, ритмично топать ногой.
Третий удар Касиуса слился с этим зарождающимся стуком. Он не просто бил – он отбивал ритм. Древний, дороженный, доколониальный ритм. Ритм, под который плясали вокруг костра и шли на войну. Ритм сердца, которое отказывалось сдаваться.
Он распался по толпе, как пожар. Сотни кулаков ударили в сотни грудей. Сотни ног затопали о землю. Сначала несогласованно, потом – в едином, чудовищном такте. Это не было песней. Это был гул. Гул пробуждённого улья. Гул земли, которая наконец-то ответила.
Касиус стоял перед этим рождающимся монстром звука, и что-то древнее и нечеловеческое смотрело из его глаз. В них не было слёз. Не было сомнений. Было только холодное, ясное решение, принятое где-то между вторым и третьим ударом.
Он поднял руку. Ладонью вперёд, как останавливая войско.
Ритм стал затихать, сходя на нет тяжёлым, прерывистым дыханием толпы. Наступила тишина, натянутая, как струна, готовая лопнуть.
Он не сказал речи. Он произнёс одно слово. На языке маланго, гортанное, короткое, как выстрел.
– Квело.
Довольно.
Повернулся и пошёл. Не к лимузину, а к краю холма, к своему внедорожнику. Спиной к могиле, к толпе, к прошлому, которое только что приговорило его к будущему.
Садился уже, когда взгляд упал на лацкан пиджака. На два значка. Слева – георгиевская булавка, серебряная, холодная. «Для удачи, мальчик», – сказал Брэдли, вручая её перед первым профессиональным боем. Символ системы, в которой он выиграл. Справа – маленькая, грубо вырезанная из тёмного дерева фигурка буйвола. Её дала ему мать, когда он впервые уезжал на сборы. «Чтобы дух предков не дал тебе забыть, чья кровь течёт в твоих жилах».
Он снял булавку. Поджал пальцы, швырнул её через плечо, в рыжую пыль у дороги. Блеснула на миг и исчезла.
Потом пальцами, которые чувствовали малейшую вибрацию каната, взял деревянного буйвола. Держал его в ладони, ощущая шершавость необработанного дерева, тёплого от тела. Затем сжал кулак. Сжал так, как сжимал перед нокаутирующим хуком. Со всей силой, на которую были способны его избитые, знаменитые костяшки.
Острая, неотшлифованная нога фигурки впилась в мякоть ладони у большого пальца. Тупо, глубоко, неумолимо.
Боль пришла не сразу. Сначала он почувствовал давление. Сопротивление плоти и дерева. Потом – щемящее тепло. И только потом – короткую, яркую вспышку боли, чистую и ясную.
Он разжал кулак. На тёмном дереве, в бороздке, оставленной резцом неизвестного мастера, алела капля. Она медленно поползла вниз по ладони, оставляя за собой тонкую, блестящую на закатном свете дорожку. Она была не красной, а почти чёрной в этом свете. Как старая кровь. Как земля.
Он не чувствовал боли. Он чувствовал связь. Первую за долгие годы настоящую, физическую, неопровержимую связь. Связь между его плотью и этой землёй. Между его кровью и кровью сестры, что теперь навсегда ушла в эту рыжую глину. Между его решением и тысячью сердец, забивших в такт позади него.
Он сел в машину, не вытирая ладонь. Завёл двигатель. В зеркале заднего вида видел, как люди не расходились. Они стояли вокруг могилы, и тихий, настойчивый ропот, похожий на отдалённый гром, всё ещё висел в воздухе.
Пресс-секретарь, бледный как полотно, сидел на пассажирском сиденье.
– Касиус, – прошептал он. – Ради всего святого. Ты понимаешь, что ты только что сделал? Это… это объявление войны всей системе!
Касиус перевёл взгляд с кровавой дорожки на своей ладони на белеющее в сумерках лицо помощника.
– Нет, – сказал он тихо, глядя прямо перед собой на дорогу, ведущую с холма в сияющий огнями Ухурополис. – Войну объявили не я. Её объявили им, когда решили, что жизнь моей сестры стоит меньше, чем участок под очередной офисный центр. А сегодня…
Он повернул руль, и машина тронулась с места, мягко погружаясь в спуск.
– …сегодня я просто явился на поле боя.
Машина съехала с холма, но ритм, отбитый тысячей ног и сердец, казалось, навсегда остался в земле, в воздухе, в пульсирующей ранке на его ладони. Он не был больше Касиусом «Жнецом» Маланго, чемпионом в отступнике.
Теперь он был просто человеком, наконец-то почувствовавшим землю под ногами. И готовым её потрясти.
Глава 2. ВОДА И КАМЕНЬ (1987)
Жара в Кейптауншипе начиналась не с солнца. Она начиналась с земли. Ночью кирпичи и жесть отдавали накопленное за день, и к утру воздух в хижине становился густым, как бульон, пахнущий пылью, потом и ржавчиной. Пятилетний Кейси просыпался от этого запаха. От этого, и от звука кашля.
Кашель отца был не звуком, а существом. Живым, влажным, цепким. Он заполнял щели между досками, качался на паутине под потолком, садился комком в горле у каждого, кто его слышал. Кейси лежал на циновке, прижавшись спиной к боковине старшей сестры Миры, и слушал. Раз. Пауза. Два. Пауза. Три. Длинная пауза, в которой сердце замирало, и потом – новый, разрывающий всё внутри спазм. Так начинался каждый их день.
Мать, Элоиза, уже стояла у жестяного таза. Она молча растирала по ладоням кусок серого мыла, похожего на известняк. Мыло почти не мылилось в коричневатой воде, но она втирала его в кожу рук с такой яростью, будто хотела стереть с них не грязь, а саму память о прикосновениях – к дверным ручкам в доме белого управляющего, к пыльным полкам, к чужой посуде.
– Вставай, – сказала она, не оборачиваясь. Голос у неё был плоский, без интонаций, как доска. – Вода кончается.
Вода. Это было первое и последнее слово их мира. Не «хлеб», не «деньги». Вода. Её было либо слишком много – тропические ливни, смывающие хлипкие заборы, либо слишком мало – вот эти жалкие литры, за которыми приходилось идти.
Кейси, Мира и средняя сестра, Амара (ей было десять, и она уже носила в себе вечную, сосредоточенную озабоченность), выстроились у двери с ёмкостями. У Миры – пластиковая канистра с оторванной ручкой, перевязанная верёвкой. У Амары – жестяной бидон из-под краски. У Кейси – маленькая, помятая консервная банка из-под ананасов. Его порция. «Чтобы не расплескал по дороге», – сказала мать, когда выдала её ему год назад.
Дорога к колонке была тропой через миниатюрный ад. Они шли босиком по земле, утоптанной до состояния бетона и усыпанной осколками, косточками, ржавыми крышками. Справа дымилась куча тлеющего мусора, слева в луже цвета моторного масла валялась дохлая собака, раздувшаяся, как шар. Воздух звенел от мух.
Очередь у колонки – ржавой трубы, торчащей из бетонного блока, – уже была. Женщины и дети. Все молчали. Разговоры тратили силы. Кейси прижал банку к животу и смотрел на струйку, сочившуюся из носика. Она была не прозрачной, а цвета слабого чая. В луже у основания колонки плавали какие-то зелёные плёнки.
Когда подошла их очередь, Мира принялась наполнять канистру, считая про себя. Амара наблюдала за округой бдительно, как часовой. Кейси смотрел на воду. Она текла медленно, лениво. Ему казалось, что он слышит, как частички ржавчины и земли цепляются друг за друга внутри струи. Их вода никогда не пела. Она шамкала.
– Эй, девчонки, подвиньтесь!
Перед ними втиснулся долговязый мальчишка лет девяти из соседнего квартала. У него был пустой, наглый взгляд и пустые руки – он пришёл не за водой, а за дракой от скуки.
Мира даже не подняла головы, продолжая считать. Амара шагнула вперёд, встав между ним и Кейси.
– Твоя очередь сзади, – сказала она тихо.
– А я говорю, моя тут! – мальчишка толкнул её в плечо.
И тут произошло то, что Кейси запомнил навсегда. Мира, не отрываясь от канистры, свободной рукой схватила лежавший рядом обломок кирпича. Не замахнулась. Не крикнула. Просто показала ему. Молча. Её глаза встретились с его глазами. В них не было злости. Было предупреждение. Холодное, абсолютное, как закон физики: «Тронь моих – и твоя голова перестанет быть круглой».
Мальчишка замер, фыркнул, но отступил. Сила здесь никогда не была про героизм. Она была про эффективность.
На обратном пути они несли воду, а вода несла их – тяжестью, от которой немели руки. Коричневатые капли просачивались через щели, стекали по ногам Кейси, оставляя на пыльной коже тёмные полосы.
– Почему наша вода такого цвета? – спросил он, споткнувшись.
Амара, шагавшая впереди, бросила через плечо:
– Потому что она умная. Она окрашивается под цвет земли, чтобы её не украли. Прозрачную воду все сразу видят.
Кейси кивнул. Это имело смысл. В их мире быть незаметным было преимуществом.
В хижине жара сгущалась. Отец, Джозеф, лежал на матрасе в углу. Он был не просто худым. Он был истончённым, будто болезнь не ела его плоть, а просвечивала её, как старое стекло. Глаза, слишком большие для лица, смотрели в потолок, но видели что-то за его пределами. Кашель теперь отнимал у него все силы, он лишь слабо дергал плечами, издавая хриплый, скребущий звук.
Мать поставила воду на жестяную плитку, разожгла щепками огонь. В кипяток полетела горсть кукурузной муки – на всех. Пахло бедностью. Пахло жареным воздухом и голодом, который был не острым чувством, а постоянным, тупым фоном, как шум в ушах.
Пока варилась папа, Элоиза подошла к отцу, смочила тряпку в их драгоценной, только что принесённой воде и протёрла ему лоб, веки. Это был единственный признак нежности, который она могла себе позволить. Её пальцы были грубыми, но движение – бесконечно усталым и бережным.
– Аптекарь сказал, нужны другие таблетки, – проговорила она вслух, но больше себе. – Белые. Из-за моря.
– Сколько? – спросила Мира, помешивая кашу.
Мать назвала сумму. Цифра повисла в воздухе. Она стоила два мешка муки. Или три похода матери на уборку в портовые конторы. Месяц относительного сытого существования для пятерых детей.
Мира перестала мешать. Амара опустила глаза. Самый младший ребёнок, трёхлетняя Лина, тихо похныкивала у её ног.
Решение не было принято. Оно произошло. Как смена времени суток. Лекарств не будет. Они выбрали муку. Они выбрали жизнь тех, кто мог её проглотить. Кейси смотрел на отца и впервые понимал математику безнадёжности. Это не было жестокостью. Это было правилом выживания. Смерть одного спасала пятерых. Эта арифметика вонзалась в него, как осколок.
Ночью отец перестал кашлять.
Тишина оказалась громче любого звука. Она ворвалась в хижину, заполнила её до краёв, давящей, восковой массой. Кейси открыл глаза. Мать уже стояла на коленях у матраса. Она положила ладонь на лоб Джозефа, потом медленно провела ей вниз, закрывая ему веки. Движение было ритуальным, окончательным. Она не заплакала. Она выдохнула. Долго, медленно, будто выпускала из себя последний пар.
– Всё, – сказала она. И это слово значило всё на свете.
Утром, перед тем как идти договариваться о месте на кладбище для бедных, она собрала их всех. Пятеро детей, выстроившихся по росту. Кейси – четвёртый, единственный мальчик, зажатый между тёплыми боками сестёр.
– Слушайте, – начала Элоиза. Её голос был твёрдым. Это был голос не скорбящей вдовы, а командира, зачитывающего устав перед битвой. – Теперь мы – как пальцы в кулаке. Разожмёшь – всё рассыплется.
Она посмотрела на Миру, самую старшую, в чьих глазах детство умерло вместе с отцом.
– Мира, ты – большой палец. Без тебя кулак не сожмёшь. Ты держишь.
Посмотрела на Амару и вторую среднюю, тихую Розу.
– Вы – указательный и средний. Работа. Смотрите, слушаете, приносите.
Взгляд упал на Кейси. Он почувствовал, как всё внутри него съёжилось.
– Кейси. Ты – безымянный палец. Слабый. Но если его сломать… – она резко сжала свой собственный кулак, костяшки побелели, – …весь кулак развалится. Ты – наша слабость. Значит, ты должен стать крепким. Крепче всех. Понял?
Кейси кивнул, не понимая до конца, но впитывая каждое слово кожей.
– Мужчина не плачет, – продолжила мать, глядя ему прямо в глаза. – Мужчина сжимает. Голод – сжимает в желудке. Злость – сжимает в горле. Слёзы – сжимает за веками. Сжимает и держит. Пока не придёт время.
Она разжала кулак и показала им свою ладонь – исчерченную трещинами, с обломанными ногтями, сильную.
– А когда время придёт… разжимаешь. И бьёшь.
Она снова сжала руку, но теперь это был не символ, а действие. Короткое, резкое. Воздух свистнул.
– Вот так.
Похороны были быстрыми и беззвучными, как кража. Староста района, сытый мужчина в чистой, но мякой рубашке, взял у матери последнюю ценную вещь – медные серёжки, подарок Джозефа на свадьбу, – бросил их в деревянный ящик, не глядя.
– Нижний ряд. После обеда. Не опаздывайте, – буркнул он.
Могилу рыли сами, по очереди с другими такими же бедняками, на свалке за последними хижинами, где земля была бесплатной потому, что отравленной. Когда груда рыжей глины начала расти, Кейси увидел червяка. Толстого, розового, извивающегося на комке земли. Он смотрел на него, не отрываясь, пока отец не исчез под красной грудой. Этот червяк был самым живым существом на этих похоронах.
По дороге домой они прошли мимо лавки. У входа стояли двое полицейских в форме. Один из них, костали с усами, держал за шиворот подростка лет четырнадцати. Второй вытряхивал содержимое его карманов. Выпало несколько монет, тряпичный мячик. Полицейский подобрал монеты, сунул в свой карман, мячик пнул ногой в канаву. Подростку дали подзатыльник, и его отпустили. Он пошёл, не оглядываясь, сгорбившись.
Кейси замер, вцепившись в край материной юбки. Он смотрел на блестящие пуговицы на мундирах, на довольные лица стражей порядка. Элоиза тоже смотрела. Потом она наклонилась к самому его уху. Её губы почти не шевелились, слова выходили шёпотом, острым и ясным, как лезвие:
– Видишь? Сила. Она не для того, чтобы защищать слабых. Она для того, чтобы у слабых забирать. Запомни это навсегда.
Вечером, когда стемнело и хижина наполнилась ровным дыханием спящих сестёр, Кейси выполз на порог. Небо над трущобами было грязно-оранжевым от отражённых огней города, звёзд не было видно. Он нашел на земле пять мелких, гладких камешков, обкатанных миллионами ног. Разложил их в ряд на ладони. Это была его семья.
Он отложил один камешек в сторону. Самый тёмный. Отец.
Оставшиеся четыре лежали на его влажной от волнения ладони. Он взял самый крупный, самый тяжелый. Себя.
Правило было: сжимай.
Он сжал камешек в кулаке. Изо всех сил. Маленькие костяшки побелели. Острый край впивался в кожу. Боль была чистой, ясной, честной. В ней не было обмана, в отличие от вкуса воды или молчания матери. Эта боль принадлежала только ему.
Он сидел так долго, сжав камень, глядя в грязное небо. Внутри него, там, где раньше была пустота, что-то кристаллизовалось. Не злость ещё, и не ярость. Твёрдость. Ощущение единственной, неоспоримой правды: чтобы не быть раздавленным, нужно самому стать камнем.
Он разжал кулак. На детской, нежной ладони отпечатался чёткий, багровый след, повторявший форму камешка. Он провёл пальцем по этому отпечатку. Это не было больно. Это было напоминание.
Кейси положил камешек в дырявый карман своих слишком больших, доставшихся от Амары, шорт. Ткань оттянулась под тяжестью.
Теперь у него было оружие. И правило.
Сжимай.
А в хижине, на матрасе, уже холодном от отсутствия отцовского кашля, трёхлетняя Лина во сне что-то прошептала. Имя. Не отца. Имя, которое через двадцать лет будет выкрикивать толпа на похоронах, превратив его в лозунг и в боевой клич.
Она прошептала: «Грейс…»
Но Кейси, на пороге, уже не слышал детских снов. Он слышал только тяжёлое, ровное биение собственного сердца, отмеряющего новый отсчёт времени – время без отца, время с камнем в кармане. Время, в котором ему предстояло стать крепким.
Глава 3. ПЕРВАЯ КРОВЬ (1993)
Шрамы Кейптауншипа были не только на земле. Они были на лицах. Надломленные улыбки, пустые глаза, бледные рубцы от забытых драк. Одиннадцатилетний Кейси нёс на щеке свой – тонкую белую ниточку, оставшуюся от падения на разбитую бутылку три года назад. Он шёл от колонки, неся два бидона – свой и сестры Амары, которая отпросилась на подённую стирку к торговцу рыбой.
Бидоны были пусты.
Вода в трубе кончилась к полудню. Он простоял впустую два часа и теперь возвращался с позорной пустотой в руках и тяжестью в желудке. Голод был их постоянным спутником, но сегодня он был особенным – острым, режущим, почти осязаемым. Мать с утра ушла на уборку в порт, сказав: «Сегодня вечером будет еда. Я договорилась». Но «договорилась» в её устах часто значило «отработаю вдвойне», и Кейси ненавидел этот вкус обещаний, оплаченных чужой усталостью.
Он уже почти дошёл до своего переулка, когда услышал смех. Знакомый, противный, булькающий смех.
– Смотри-ка, Маланго! Опять с пустыми руками? Или у тебя руки-то пустые от рождения?
Перед ним встали двое. Сайрус и Бен. Сыновья сторожа на складе, что считалось в трущобах почти элитой. Они были на год старше, откормленные на остатках с чужого стола. Особенно Сайрус, инициатор, мальчик с лицом лунным и круглым, на котором вечно играла самодовольная усмешка.
Кейси попытался пройти, прижав бидоны к груди.
– Я спешу.
– К голоду спешишь? – Сайрус блокировал путь. – Я слышал, твоя мамаша опять по чужим дворам ползает. Наверное, и ты тоже скоро начнёшь по помойкам шарить, как ваш папаша перед тем, как…
Он не договорил. Но все всё поняли. Джозеф Маланго умер не героем, а жертвой. И в устах Сайруса это звучало как приговор всей их семье.
Кровь ударила Кейси в виски. Он услышал внутри себя материнское: «Сжимай». Он сжал ручки бидонов так, что жесть затрещала.
– Отойди, – сказал он тихо, но так, что Сайрус на мгновение отпрянул.
– Ой, испугал! – фыркнул тот, быстро оправившись. – Голодный щенок и лает. Давай, Бен, покажем ему, где его место.
Бен, более тугодумный и массивный, шагнул вперёд и толкнул Кейси в плечо. Тот отшатнулся, но удержался на ногах. Бидоны с грохотом упали на землю, покатились.
– Место твоё – в грязи, – процедил Сайрус и толкнул его уже сам, со всей силы, двумя руками в грудь.
Кейси упал на спину. Воздух вырвался из лёгких со свистом. Пыль взметнулась столбом, вонзилась в нос, в горло. Он лежал, глядя в оранжевое небо, и видел над собой два насмехающихся лица. И в этот момент что-то внутри него не сжалось, а лопнуло.
Тихое, стеклянное тиканье. То самое, что было в ночь смерти отца. Но теперь оно отозвалось не тишиной, а гулом.
Он вскочил не так, как встают после падения, а как отпускает пружина – резко, низко, беззвучно. Его тело приняло решение раньше разума. Правила матери оказались слишком хрупкими для этого.
Сайрус, не ожидавший такой прыти, замер на миг. Этого мига хватило.
Кейси не бил кулаком. Он воткнул его. Коротко, прямо, всей силой оттолкнувшегося от земли тела, в солнечное сплетение Сайруса.
Тот ахнул, сложился пополам, глаза вылезли от неожиданности и боли. Но Кейси уже не видел его. Он видел только Бена, который с ревом бросался на него, раскинув руки, как медведь.
И тут произошло то, что позже станет легендой его ранних боёв. Инстинкт. Чистый, животный, не отточенный тренировками.
Кейси не отпрыгнул. Он нырнул. Подставил плечо под размашистый удар Бена, пропустил его силу мимо себя и, продолжая движение, врезался головой тому в грудь. Они оба рухнули, но Кейси оказался сверху. Он не думал, куда бить. Он просто бил. Короткими, частыми, жестокими ударами в лицо, в шею, в плечи. Он слышал хлюпающие звуки, хрип Бена, но не останавливался. Ярость была белой и слепой. В ней не было места ни страху, ни расчёту. Только древний, первобытный ритм: уничтожить угрозу.
– ХВАТИТ!
Голос ударил, как ведро ледяной воды. Низкий, хриплый, с акцентом, который резал слух – не местный, но и не совсем чужой. Голос власти.
Кейси замер, кулак, занесённый для очередного удара, дрогнул в воздухе. Он поднял голову.
Над ним стоял мужчина. Высокий, сухой, в выцветшей хаки-рубашке и потёртых брюках. Лицо было изрезано морщинами, как старая карта, волосы – седые, коротко стриженные. Но глаза… глаза были голубыми и холодными, как ледники на фотографиях из школьного учебника. И смотрели они не с осуждением, а с… интересом.
– Отойди от него, парень, – сказал мужчина спокойно. – Он уже не опасен.
Кейси отполз, встал на ноги, дрожа всем телом. Руки у него были в крови. Не его. Крови Бена. Сайрус сидел в нескольких метрах, обхватив живот, и тихо стонал.
Мужчина не обратил на них внимания. Он изучающе смотрел на Кейси.
– Как тебя зовут?
– К-Кейси, – выдавил тот.
– Кейси. Хм. А меня зовут Артур Клейтон. Но здесь все зовут меня «полковник». Или «мстер Клей». – Он немного помолчал, потом кивнул на лежащего Бена. – Ты его не просто побил. Ты его уложил. Первый удар – в дыру под рёбра. Второе движение – уклон под его силу с последующим входом. Это не драка. Это… техника. Где ты этому научился?
– Я… я не учился, – пробормотал Кейси.
– Вот именно, – Клейтон усмехнулся, но в усмешке не было тепла. – Значит, это инстинкт. А инстинкт, мальчик, – это роскошь, которую не каждый может себе позволить. У тебя он есть. Зарываешь его в грязь.