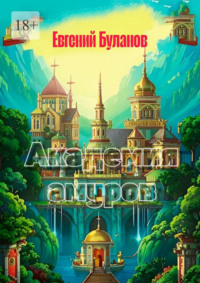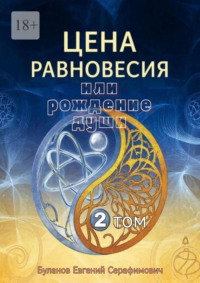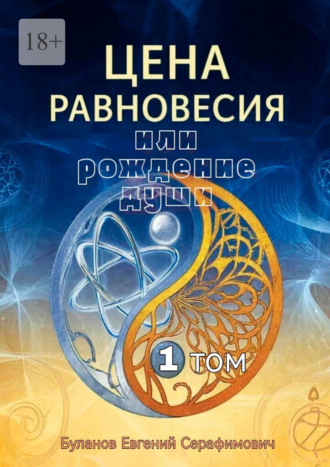
Полная версия
Цена равновесия или рождение души

Цена равновесия или рождение души
Евгений Серафимович Буланов
© Евгений Серафимович Буланов, 2025
ISBN 978-5-0068-8822-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Цена равновесия или рождение души
том 1
Предисловие
Эта книга родилась на границе. На той неуловимой черте, где заканчивается язык формул и начинается территория тишины. Где научная мысль, достигнув предела, вынуждена признать: за последним уравнением всегда остаётся нечто большее.
Вы держите в руках не просто роман. Это – исследование. Духовно-научный детектив, где главной загадкой оказывается сама природа человека. Мы отправимся в путь вместе с теми, кто осмелился задать вопросы, на которые, казалось, не может быть ответов: что такое сознание? Существует ли душа? И если да, то из чего она соткана?
Наши герои – учёные. Люди трезвого ума и холодного расчёта. Их оружие – логика, их поле боя – лаборатория. Но однажды их данные начинают указывать на реальность, которая не укладывается в старые парадигмы. Они обнаруживают, что время – не абстрактная река, а живая субстанция. И что носителем этой субстанции является то, что веками называли душой.
Это открытие становится началом великого противостояния. С одной стороны – свет истины, требующий невероятной внутренней честности и готовности пересмотреть всё, чем ты жил. С другой – тени страха и контроля, желающие превратить это знание в инструмент власти.
Но по мере погружения в тайну, сама суть конфликта преображается. Внешняя борьба сменяется внутренним путешествием. Детективный сюжет перерастает в философскую притчу, а научное исследование – в духовный опыт. Герои понимают, что собирать по крупицам нужно не доказательства, а самих себя. Что истинная цель – не покорить реальность, а наладить с ней диалог.
Это история о Рождении Душ. Не как одномоментном чуде, а как вечном процессе – трудном, болезненном и прекрасном. О том, как, обретая целостность внутри, мы учимся чувствовать связь с целым снаружи.
Здесь вы не найдёте готовых ответов. Зато найдёте честные вопросы, которые, быть может, отзовутся и в вас. И если по прочтении последней страницы вы на мгновение затаите дыхание, чтобы прислушаться к тихому ритму собственного бытия – значит, книга выполнила свою задачу.
Добро пожаловать в Пенталогию Равновесия. Пусть это чтение станет для вас не бегством из реальности, а удивительным возвращением к ней – более глубокой, загадочной и живой, чем вы могли предположить.
Книга 1: «Треснутое зеркало»
Часть 1: Трещины
Глава 1: Осколки Сознания (Артём)
Последний луч заходящего солнца, ржавый и тяжелый, упал на монитор, исказив цветовые карты активности мозга. Глеб откинулся на спинку кресла, закрыв глаза. Тишина в лаборатории была особого свойства – не живая, природная, а искусственная, выхолощенная системами вентиляции и глухой изоляцией. Воздух пах озоном от работающей техники и сладковатой химической чистотой.
Он только что потратил три часа, пытаясь поймать в нейронных сетях мысль о любви.
Не саму любовь, конечно. Это было бы ненаучно. Он искал её уникальный, неоспоримый отпечаток. Доброволица – молодая женщина по имени Яна – лежала в томографе и по команде вспоминала самый яркий момент нежности: рождение дочери. Данные фМРТ показывали яркие всплески. Зоны вознаграждения, эмоциональные центры, память – всё сияло на экране, как ночной мегаполис с высоты птичьего полета.
И в этом была вся бездна его разочарования.
Ничего уникального. Тот же самый «город» загорался, когда человек испытывал радость от вкусной еды, наркотический восторг или религиозный экстаз. Лишь комбинации знакомых паттернов, химический фейерверк в ответ на стимул. Сознание, эта последняя крепость человеческой исключительности, упрямо не желало показывать ему свое лицо. Оно пряталось за работой процессора, выдавая себя лишь за него.
«Эпифеномен, – с горькой усмешкой подумал Глеб. – Побочный продукт. Шум работы сложной машины. И мы, дураки, пишем из-за этого шума стихи и идем на смерть».
Его собственные мысли текли медленно и вязко, как густой сироп. Время в подвальной лаборатории текло иначе. Оно не летело и не тянулось; оно густело, налипая на стены и приборы слоями безразличия. Иногда ему казалось, будто он сам становится частью этой стерильной машины, его пульс синхронизируется с тихим гудением серверов, а дыхание – с мерным миганием светодиодов.
Он встал, и кости отозвались глухим хрустом. Сорок лет. Не возраст, а рубеж, за которым начинается плато усталости. Он подошел к большому зеркалу-стене, в котором обычно проверяли расположение датчиков. Его отражение было призрачным, наложенным на схемы и формулы, оставленные на стекле маркером. Измождённое лицо с резкими чертами, тени под глазами, которые не могли развеять даже бессонные ночи. Он поймал себя на мысли, что смотрит не в глаза своему двойнику, а куда-то сквозь него, вглубь черепной коробки, пытаясь разглядеть там ту самую загадочную искру.
Её не было.
Раздался тихий щелчок, и дверь в лабораторию открылась, впуская острый клин света из коридора. На пороге стояла Лиля, его аспирантка. В её руках были кофе и свежая выпечка – двумя вещами, которые казались здесь, среди хрома и кремния, диким анахронизмом.
– Глеб Викторович, вы ещё здесь? – её голос, звонкий и юный, резанул по слуху. – Данные по Яне уже обработались. Всё в норме. Стабильно высокий уровень окситоцина, всплеск в прилежащем ядре…
– Я видел, – прервал он её, голос прозвучал хриплее, чем он хотел. – Спасибо, Лиля. Можешь идти.
Она заколебалась на пороге, чувствуя ледяную стену его настроения.
– Вам… плохо?
Вопрос был настолько простым и человечным, что на мгновение выбил его из колеи. «Плохо»? Это не то слово. Скорее… опустошённо. Как будто он годами собирал сложнейший пазл, и вот осталась последняя деталь, но она не подходит. Или подходит, но картина, которая получается, настолько банальна и безотрадна, что не хочется её завершать.
– Устал, – коротко бросил он, отвернувшись к кофе-машине. – Завтра продолжим. Новый испытуемый, мужчина. Будем фиксировать реакцию на страх.
Лиля кивнула и, бросив на него последний беспокойный взгляд, исчезла. Дверь закрылась, и гнетущая тишина вернулась, став ещё гуще.
Он налил себе черного кофе, не разбавляя. Горечь обожгла язык, и это было единственное яркое ощущение за последние несколько часов. Он подошел к главному компьютеру. На экране застыла трехмерная модель мозга Яны, усеянная разноцветными огнями. Он увеличил масштаб, вглядываясь в гиппокамп, в миндалевидное тело.
«Где же ты? – мысленно обратился он к призраку, живущему в этой нейронной сети. – Шепни мне. Дай зацепку».
Мозг молчал, выдавая лишь биологический отчет о своей работе.
И вдруг… нечто. Его взгляд зацепился за крошечную зону в височной доле, почти на стыке с теменной. Она не пылала алым и не сияла желтым. Она мерцала. Слабый, едва заметный пульсирующий сигнал, который не вписывался ни в один из известных паттернов. Программа анализа проигнорировала его как артефакт, шум.
Глеб замер. Все его усталость куда-то испарилась, сменившись знакомым, острым, как охотничий нож, азартом. Он несколько раз перезапустил визуализацию. Слабый пульс появлялся снова и снова, строго в тот момент, когда Яна описывала свои чувства: «…и тогда я поняла, что это навсегда.»
«Навсегда» – понятие, не имеющее смысла для мозга, который живет в настоящем моменте. Мозг может вспомнить прошлое и спрогнозировать будущее, но ощущение «вечности»… Откуда оно?
Он углубился в изучение данных, забыв о кофе, о времени, о собственной усталости. Это было похоже на то, как если бы он годами слушал громкую, навязчивую музыку и вдруг уловил за её грохотом тихий, незнакомый инструмент, ведущий свою собственную, невероятно сложную партию.
Мысль, холодная и отчетливая, пронзила его: а что, если он все это время смотрел не туда? Что если сознание – не продукт мозга, а… пользователь? Пилот, который лишь подключен к этому биологическому интерфейсу? И этот слабый пульс – не шум, а след иного подключения? Отголосок чего-то, что находится по ту сторону черепа?
Он отшатнулся от экрана, как будто его ударило током. Сердце забилось с бешеной частотой. Это было не открытие. Это была ересь. Ересь, которая громила всё, во что он верил. Весь его научный фундамент давал крен.
Глеб резко встал и подошел к окну. На улице уже давно стемнело. Город сиял миллиардами огней, каждый из которых был чьей-то жизнью, чьим-то сознанием. Он смотрел на этот свет и впервые видел не просто скопление людей, а огромное, дышащее поле… чего? Неизвестности. Тайны.
Он обернулся, бросая взгляд на мерцающую точку на экране. Она всё ещё пульсировала, тихая и настойчивая.
– Ладно, – тихо прошептал он в тишину лаборатории. – Игра начинается. Посмотрим, кто ты.
И впервые за долгие годы в его душе, вместо привычной пустоты, зародилось нечто, отдаленно напоминающее надежду. И трепет перед лицом неведомого.
Глава 2: Эхо Прошлых Жизней
Кабинет Маргариты был полной противоположностью лаборатории Глеба. Здесь не гудел техногенный холод, а пахло древесиной, старой бумагой и едва уловимыми нотами лаванды. Мягкий свет настольной лампы отбрасывал тёплые блики на стены, заставленные книжными шкафами. В углу тихо потрескивали в камине поленья, их живое тепло было единственным движением в застывшем воздухе. Здесь время текло иначе – не линейно, а словно по кругу, замедляясь и сгущаясь вокруг тихих размышлений.
Сергей Петрович, её пациент, сидел в глубоком кресле, укутанный в плед, хотя в кабинете было тепло. Его поза была расслабленной, но в этой расслабленности сквозила не естественная усталость, а какая-то окончательная, бесповоротная истощённость. Он перенёс клиническую смерть три недели назад после обширного инфаркта. С физической точки зрения, его вытащили. Но с точки зрения Маргариты, человека в нём осталось что-то неуловимо мало.
– Расскажите о свете, Сергей Петрович, – мягко попросила Маргарита, её голос был тихим, чтобы не разбить хрупкую ткань воспоминаний.
Мужчина медленно повернул к ней лицо. Его глаза были спокойными, ясными и до странности пустыми. В них не было ни страха, ни радости, лишь глубокая, бездонная уверенность.
– Света не было, – ответил он, и его голос звучал ровно, без интонаций, как озвучивание текста. – Вернее, он был везде. И я был этим светом. Не было «я» и «света». Было… знание. Полное и абсолютное. Я понимал связи между вещами. Почему падает лист. Зачем поёт птица. Я видел математическую формулу любви и музыкальную гармонию рождения галактики. Это было… домом.
Маргарита делала пометки в своем блокноте, но рука двигалась автоматически. Она была вся во внимании. Это было классическое описание переживания клинической смерти. Но дальше всегда начиналось самое интересное.
– А что вы почувствовали, когда вернулись?
Сергей Петрович помолчал, его взгляд обратился внутрь себя.
– Пустоту, – сказал он наконец, и в его голосе впервые пробилась щемящая нота. – Не эмоциональную. Физическую. Как будто внутри, в самом центре груди, где раньше было… биение, тепло, тяга… теперь зияет проход. Сквозняк. Я всё помню. Я помню то знание. Я могу, например, решить в уме сложное уравнение. Но это знание теперь… бесполезно. Оно ни к чему не ведет. Оно не греет.
Маргарита перестала писать. Парадокс, который она фиксировала уже не в первый раз, проявлялся здесь с пугающей чёткостью. Знание без жизненной силы. Интеллект, работающий на холостом ходу. Душа, если пользоваться этим словом, как аккумулятор, который полностью разрядился и не может принять заряд. Или как двигатель, из которого вынули поршень. Механизм цел, но главной детали, дающей движение, нет.
– Вы сказали «тяга». Что вы имели в виду? – она наклонилась чуть ближе, ловя каждое слово.
– Тяга жить, – прошептал он. – Желание. Интерес. Сейчас я смотрю на камин. Я вижу пламя, его структуру, химическую реакцию горения, конвекционные потоки. Но я не чувствую его тепла. Вернее, я чувствую его кожей, но оно не проникает внутрь. Оно не радует. Раньше… раньше было иначе. Был внутренний огонь, который откликался на внешний.
Он говорил, а Маргарита ловила себя на мысли, что смотрит не на него, а сквозь него. Её внутренний взгляд, отточенный годами работы, пытался различить невидимую архитектуру его существа. Она представляла человека как сложный многослойный инструмент. Физическое тело – виолончель. Эмоции – вибрация струн. Интеллект – смычок в руках музыканта. Но кто музыкант? И куда он делся? Сергей Петрович был безупречной виолончелью, на которой кто-то забыл играть.
– Когда вы говорите «проход», «сквозняк»… он ощущается физически?
– Нет, – он покачал головой. – Это ощущение потери связи. Как будто отключили центральный кабель. Я… я стал периферийным устройством. Работаю, но без командного центра.
Внезапно он поднял на неё свой ясный, пустой взгляд.
– Доктор, а что такое душа, с научной точки зрения?
Вопрос прозвучал как удар. Он был простым, детским и одновременно невыносимо сложным. Маргарита почувствовала, как по спине пробежал холодок. Она, всегда находившая слова, чтобы утешить, объяснить, направить, вдруг оказалась в тупике.
– Я не знаю, Сергей Петрович, – честно призналась она, и эта честность стоила ей немалых усилий. – Наука описывает процессы в мозге, химические реакции. Но она не может измерить… тягу. Не может взвесить тоску по свету, который вы видели.
Она замолчала, и в тишине кабинета, нарушаемой лишь потрескиванием огня, повисло нечто важное. Ощущение, что они оба стоят на пороге, за которым лежит ответ, но переступить его мешает невидимая преграда.
– Может быть, душа – это и есть тот самый центральный кабель? – тихо сказала она, больше сама для себя. – Проводник, по которому течет… жизнь. Не информация, а сама сила, которая делает информацию значимой.
Сергей Петрович внимательно посмотрел на неё, и в его глазах на мгновение мелькнула тень живого интереса.
– А что, если его можно подключить обратно? – спросил он.
Маргарита встрепенулась. Этот вопрос вывел её из состояния наблюдателя и вновь сделал участником. В нём звучал тот самый азарт, то самое детективное начало, которое всегда двигало ею вперёд.
– Я не знаю, – повторила она, но теперь в её голосе были уже иные ноты – не растерянности, а решимости. – Но я очень хочу это выяснить.
После того как Сергей Петрович ушел, оставив после себя в воздухе ощущение ледяной пустоты, Маргарита подошла к окну. Город за стеклом жил своей жизнью, миллионы огней – миллионы «центральных кабелей», миллионов душ. Одни горели ярко, другие мерцали, третьи, возможно, как у Сергея Петровича, были едва теплыми или вовсе отключенными.
Она положила ладонь на холодное стекло. Где искать ответ? В учебниках по психиатрии? В трудах богословов? Или, как подсказывало ей чутье, на стыке? Там, где строгие линии научных фактов сталкиваются с туманными контурами духовного опыта, рождая новую, неведомую доселе географию.
И мысль о завтрашней конференции, где должен был выступать тот самый скандальный нейрофизиолог Глеб, вдруг показалась ей не случайностью, а вехой. Может быть, его холодный, бездушный подход и её теплая, но бездоказательная вера – это два ключа к одной двери?
Она вздохнула, и её дыхание затуманило стекло. Завтра. Она обязательно пойдет на этот доклад. Возможно, это и есть первый шаг к тому, чтобы найти способ «подключить кабель» обратно. И этот шаг отдаленно напоминал начало самого захватывающего расследования в её жизни.
Огонь в камине догорал, рассыпаясь рубиновыми угольками. Маргарита осталась одна в кольце приглушенного света, отбрасываемого лампой. Тишина после ухода Сергея Петровича была особой – не пустой, а насыщенной невысказанным, словно воздух дрожал от замерших вопросов.
Она взяла с полки толстую тетрадь в потёртом кожаном переплете. Это был не просто дневник, а скорее карта внутренней территории, которую она годами пыталась нанести на бумагу. Чернильная ручка привычно легла между пальцев, и страница, испещренная ровными строчками, ожила.
«Сегодня снова был Сергей Петрович. Он сказал: „Я стал периферийным устройством“. Эта фраза преследует меня. Мы в психиатрии знаем всё о „периферии“ – о нейротрансмиттерах, синапсах, гормонах стресса и вознаграждения. Мы можем нарисовать подробнейшую схему проводки, описать алгоритмы работы. Но мы понятия не имеем, откуда приходит ток, заставляющий всю эту систему жить. Мы описываем механизм шестерёнок, забывая о руке, которая заводит часы.»
Она отложила ручку, вглядываясь в танцующие тени на стене. Выгорание. Она знала этот термин вдоль и поперек, сама читала лекции о его симптомах. Но её собственная усталость была иного рода. Это была не усталость от работы, а усталость от бессилия. Словно она годами стояла на берегу океана с чайной ложкой, пытаясь вычерпать из него воду и найти на дне истину. Наука давала ей всё более совершенные ложки – томографы, нейроинтерфейсы, генный анализ. Но океан оставался бездонным, а тайна – неуловимой.
«Иногда мне кажется, я слышу отзвуки. Не голоса, а именно отзвуки – как эхо в пустой комнате. Когда пациент описывает „свет“, в котором „всё есть знание“, во мне что-то отзывается. Не память, а скорее… смутное узнавание. Как будто я когда-то знала этот язык, но теперь забыла слова, и лишь мелодия иногда прорывается сквозь шум. Это и гонит меня вперед. Не профессиональный долг, а личное, почти детективное любопытство. Что, если все эти метафоры – „свет“, „тоннель“, „отделение от тела“ – не поэтические преувеличения, а неуклюжие, детские попытки описать реальный, но невероятно сложный процесс? Процесс, у которого есть свои законы, своя „физика“?»
Она снова взялась за ручку, её почерк стал более энергичным, порывистым.
«Предположим. Предположим, что человек – это не только биологический организм. Что наше „Я“ – это сложная структура, состоящая из нескольких… уровней или планов. Физическое тело – самый грубый, самый очевидный. Но что, если есть и другие, более тонкие? Эмоциональный план, где рождаются чувства. Ментальный, где формируются мысли. И некий фундаментальный, базовый – тот самый „центральный кабель“, источник жизненной силы, который связывает всё воедино и даёт нам… ощущение бытия. Что, если клиническая смерть – это не умирание, а насильственное разъединение этих планов? И иногда, при возвращении, самое главное звено – то, что держит всю конструкцию, – не „защелкивается“ обратно? Сергей Петрович не умер. Его тело живет, его интеллект работает. Но связь с источником оборвана. Он – корабль с полным комплектом исправных приборов, но с отключенным двигателем.»
Мысль была пугающей и одновременно ослепительной. Она откинулась на спинку кресла, чувствуя, как учащенно бьется сердце. Это была не просто гипотеза. Это была новая система координат. Если это правда, то всё – и медицину, и психологию, и саму философию жизни – нужно пересматривать.
«Но как это доказать? Как найти этот „кабель“? Как его „починить“? Научный метод требует измерений, повторяемости, доказательств. А как измерить силу, которая делает жизнь жизнью, а не набором химических реакций? Как взвесить душу?»
Внезапно она вспомнила о завтрашней конференции. Глеб. Нейрофизиолог, который, по слухам, пытался оцифровать сознание. Его подход был диаметрально противоположен её собственному. Он хотел свести всё к алгоритмам, к коду. В её кругах его называли циником, почти еретиком.
И тут её осенило. Что, если её вера в нечто большее и его вера в бездушный механизм – это не противоречие, а две стороны одной медали? Что, если для того, чтобы найти источник жизни, нужно одновременно подняться до самых высоких духовных сфер и опуститься до самых низких, базовых уровней материи? Возможно, истина скрывается именно на стыке, в том месте, где физика сталкивается с метафизикой.
Ощущение выгорания вдруг отступило, сменившись знакомым, острым, как ветер с моря, чувством азарта. Она снова чувствовала себя не терапевтом, уставшим от бесконечного потока пациентов, а исследователем, стоящим на пороге величайшего открытия.
Она дописала последнюю фразу, выводя буквы с новой решимостью:
«Завтра. Пойду слушать этого циника. Возможно, его холодный, бездушный подход – это именно тот инструмент, которого мне не хватает. Возможно, наши с ним методы, как два ключа, должны повернуться одновременно в одной замковой скважине. А что скрывается за дверью – не знает никто.»
Она закрыла дневник. Пламя в камине с последним вздохом угасло, но в темноте кабинета теперь жило иное, неуловимое свечение – свет нерешённой загадки, зовущей в неизвестность. И этот свет был куда ярче и теплее любого огня.
Глава 3: Случайное Столкновение
Зал конференции напоминал улей, сотканный из света, стекла и холодного блеска металла. Воздух был насыщен низким гулким гулом голосов, шелестом программок и едва уловимым запахом озона от проекционной техники. Под потолком плавали призрачные голограммы с логотипами спонсоров, отбрасывая на лица собравшихся мертвенные блики. Время здесь текло сжато и нервно, подчиняясь строгому регламенту, отмеряемому тиканьем невидимых часов.
Глеб стоял на подиуме, ощущая под ногами упругость дорогого покрытия. Перед ним простиралось море лиц – одни внимательные, другие скептические, третьи откровенно скучающие. Он сделал паузу, давая последним слайдам с мозговыми картами и сложными графиками осесть в сознании аудитории.
– Итак, – его голос, усиленный микрофоном, прозвучал сухо и отчётливо, заполнив собой пространство. – Мы видим последовательную активацию зон. От сенсорной коры до префронтальных отделов. Мы можем предсказать выбор человека с долей вероятности, превышающей случайность. Мы можем искусственно стимулировать участки и вызывать чувство страха, блаженства или религиозного экстаза. Но ни в одном эксперименте, ни в одном сканере мы не нашли ничего, что указывало бы на присутствие некоего отдельного «Я», управляющего этим процессом. Сознание – это не дирижер оркестра. Это – шум, который издаёт сам оркестр, работая в полную силу. Уберите нейроны, химические медиаторы, электрические импульсы – и не останется ничего. Никакого внутреннего наблюдателя. Лишь тишина.
В зале повисла пауза, напряжённая и звенящая. Его вывод, высказанный с такой безапелляционной прямотой, повис в воздухе тяжелым холодным камнем.
Маргарита сидела в десятом ряду, сжимая в пальцах кожаную обложку своего блокнота. Речь Глеба вызывала в ней странную смесь отторжения и жгучего интереса. Он был так уверен. Так логически безупречен. И так безнадежно не прав, с её точки зрения. Он описывал устройство часов, не видя времени, которое они показывают.
И тогда она подняла руку. Движение было спокойным, почти плавным, но в переполненном зале оно показалось ей невероятно громким. Глеб, уже собравшийся объявить об окончании доклада, заметил её. Его взгляд, острый и усталый, скользнул по ней, оценивая.
– Вопрос? – бросил он коротко.
– Маргарита Светлова, – представилась она, и её голос, чистый и глубокий, прозвучал контрастом после его сухих реплик. – Спасибо за блестящий доклад. Вы утверждаете, что сознание – это иллюзия, побочный продукт работы мозга. Но позвольте спросить: если это всего лишь иллюзия, то кто или что испытывает боль от этой иллюзии? Кто ощущает её остроту, её унизительную реальность? Где в ваших схемах тот, кому больно?
Вопрос повис в воздухе, и звенящая тишина стала ещё глубже. Казалось, сам зал затаил дыхание. Глеб не ответил сразу. Он внимательно посмотрел на женщину, задавшую вопрос. Он видел не вызов в её глазах, а настоящую, неподдельную жажду понять. Это было необычно.
– Вы задаете классический вопрос о «когнитивном гомункулусе», – начал он, и в его голосе впервые появились едва уловимые ноты чего-то, кроме холодной уверенности. – О маленьком человечке внутри, который смотрит на картинки. Но это – путь в бесконечность. Если есть один гомункул, то кто смотрит на его картинки? Другой, ещё меньший? Нет. Боль – это сигнал. Эволюционно выработанный механизм обратной связи. Нейроны передают импульс, мозг интерпретирует его как угрозу и запускает комплекс реакций. Никакого «страдающего наблюдателя» не требуется. Страдание – это и есть процесс.
– Но процесс для кого? – не отступала Маргарита, и в её глазах вспыхнул огонь. – Сигнал должен быть чьим-то сигналом. Боль – чьей-то болью. Вы описываете письмо, но отрицаете существование автора, который вложил в него смысл. Я работаю с людьми, пережившими клиническую смерть. Они описывают ощущение выхода за пределы мозга, за пределы любой физиологии. Откуда берутся эти воспоминания, если носитель, по вашим словам, был отключён?