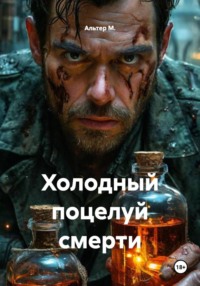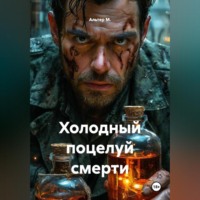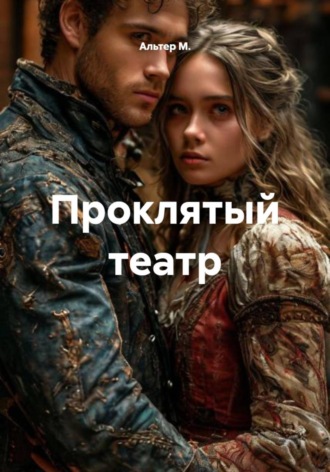
Полная версия

Альтер М.
Проклятый театр
Глава первая. Приглашение на Тёмную Сцену
Ветер, резкий и пронизывающий, словно специально выискивал лазейки в стареньком пальто Артёма, гулял по безлюдным переулкам за станцией метро «Курская». Он нес с собой запахи большого города – раскалённого асфальта, выхлопных газов и далёкой, едва уловимой сладости цветущих каштанов. Этот коктейль ароматов был фоном жизни Артёма, привычным и почти не замечаемым, как собственное дыхание. Он шёл, засунув руки в карманы, опустив голову, и его шаги отбивали чёткий, почти механический ритм. Ритм человека, у которого есть точка А, но начисто отсутствует точка Б.
Театр «Эльдорадо» стал для него точкой А ровно три месяца назад, когда уволили из «Современника». Не то чтобы уволили – «не продлили контракт», «освободили для новых творческих поисков». Красивые слова, за которыми скрывалась простая истина: он, Артём Волков, тридцатидвухлетний, некогда подававший надежды актёр, стал не нужен. Его типаж – «герой-любовник с налётом трагизма» – вышел из моды, уступив место грубоватым характерным актёрам или пластичным юнцам. Его «слишком правильные» черты, высокий лоб и тёмные, почти чёрные глаза, которые когда-то называли «бездонными», теперь казались режиссёрам старомодными.
«Эльдорадо» был тем местом, куда попадали, чтобы не исчезнуть совсем. Полуподвальное помещение с вывеской, которую давно не обновляли, зал на восемьдесят мест, вечно полупустой, и репертуар, состоящий из низкобюджетных детективов и пошлых комедий. Здесь Артём играл роли, названия которых даже стыдно было произносить вслух: «Любовник главной героини», «Следователь номер два», «Тень в ночи». Он произносил текст, в котором не верил ни единым словом, перед зрителями, которые приходили сюда не за искусством, а за дешёвым развлечением. Это была медленная смерть. Смерть таланта, если он вообще когда-либо у него был. Смерть амбиций. Смерть веры.
Именно поэтому, когда его старый приятель, гримёр Леха, пробормотал сквозь зубы, держа во рту шпильки для парика: «Слышь, Тём, тут одно место подворачивается. Не в нашем дерьме, а в настоящем театре. Правда, говорят, там… странно», – Артём отреагировал с инстинктивной жадностью утопающего.
– Что значит «странно?» – спросил он, стараясь, чтобы голос не дрогнул.
Леха, маленький, юркий человечек с вечно испуганными глазами, огляделся, будто в уборной «Эльдорадо» могли прятаться шпионы. – Ну, знаешь… Режиссёр тот ещё фрукт. Горчаков. Слышал о таком?
Артём покачал головой. Имена мэтров он знал, но в последние годы следил за театральной жизнью всё меньше, предпочитая топить отчаяние в дешёвом вине.
– Так он и есть, мэтр, – прошипел Леха. – Говорят, гений. Или сумасшедший. Или и то, и другое. Ставил в БДТ, в МХАТе, а потом пропал. Лет десять его не было слышно. А теперь объявился. Набрал труппу для какого-то своего проекта. Очень закрытого. Репетиции в каком-то старом особняке на Остоженке. Денег, говорят, платят немерено. Но народ оттуда… уходит.
– Уходит? Как это?
– По-разному. Кто в психушку, кто просто исчезает. Говорят, один актёр повесился после первой же читки пьесы. Бред, конечно, – Леха нервно рассмеялся, но в его глазах не было ни капли веселья. – Но место свободно. Главная роль. Я тебя рекомендовал. У тебя же внешность… ну, как у того покойника. Горчаков ищет именно такой типаж.
Это было мерзко. И невероятно заманчиво. Главная роль. У мэтра. Деньги. Шанс вырваться из этого болота. Даже если это был обрыв, а не берег, прыгать в неизвестность казалось куда предпочтительнее, чем медленно тонуть в зловонной трясине «Эльдорадо».
Теперь он шёл по Остоженке, и его шаги замедлялись по мере приближения к заветному адресу. Особняк, который Леха описал как «неоготика, похоже на замок», на деле оказался мрачным, обветшавшим зданием, встроенным в ряд таких же аристократических, но давно утративших лоск домов. Он не бросался в глаза, скорее, наоборот – старался стушеваться, спрятаться за высоким кованым забором с острыми пиками и густо разросшимся плющом, который покрывал стены словно траурный креп. Чёрный, отсыревший камень, стрельчатые окна с готическими переплётами, тяжёлая дубовая дверь с массивным молотком в виде головы химеры. От всего этого веяло не просто стариной, а чем-то глубоко чуждым, не московским. Казалось, этот дом провалился сквозь время и пространство из какой-то другой, более тёмной реальности.
Артём глубоко вздохнул, подняв лицо к небу. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая марево городского смога в багровые тона. «Или ступить за эту дверь, или вернуться к „Любовнику главной героини“», – мысленно сказал он себе. Выбора, по сути, не было.
Молоток оказался на удивление тяжёлым. Он с глухим, утробным стуком ударил о дубовую плиту, и этот звук, казалось, не распространился в воздухе, а впитался в стены, ушёл вглубь дома. Ответа пришлось ждать так долго, что Артём уже собрался было уходить, ощущая смесь разочарования и странного облегчения. Но тут дверь беззвучно отворилась.
В проёме стояла женщина. Высокая, худая, почти костлявая, в простом чёрном платье до пола. Её лицо было бледным и неподвижным, как маска, а седые волосы убраны в тугой пучок. Но больше всего Артёма поразили её глаза. Светло-серые, почти бесцветные, они смотрели на него с холодным, безразличным любопытством, словно он был не живым человеком, а экспонатом в витрине.
– Артём Волков? – её голос был низким и ровным, без единой эмоциональной вибрации. – Вас ждут. Проходите.
Она отступила в тень, пропуская его внутрь. Артём переступил порог, и тяжёлая дверь бесшумно закрылась за его спиной, отсекая внешний мир с его гулом машин и криками детей.
Его охватила тишина. Не просто отсутствие звуков, а густая, почти осязаемая субстанция, в которой увязали шаги и сбивалось дыхание. Воздух был холодным и влажным, пах старыми книгами, пылью и чем-то ещё – сладковатым, лекарственным ароматом, напоминающим ладан, но с неприятной, тлетворной ноткой.
Он оказался в просторном холле с высоким, кессонным потолком, который терялся в тенях. Стены были обшиты тёмным деревом, на них висели портреты в тяжёлых рамах – люди в камзолах и кринолинах смотрели на него пустыми глазами. В центре стояла массивная люстра из чёрного кованого железа и матового стекла, но она не горела. Единственный источник света исходил от настольной лампы с зелёным абажуром, стоявшей на резном консольном столике у лестницы, которая широким маршем уходила на второй этаж.
– Репетиции проходят в бальном зале, на втором этаже, – сказала женщина, не представляясь. – Маэстро Горчаков ждёт вас. Поднимайтесь.
Она не двинулась с места, указывая ему путь лишь взглядом своих ледяных глаз. Артём кивнул и направился к лестнице. Деревянные ступени поскрипывали под его ногами, и каждый скрип отдавался эхом в гробовой тишине особняка.
На втором этаже царил полумрак. Длинный коридор, уходящий в обе стороны, был освещён редкими настенными бра в виде факелов, дававших тусклый, колеблющийся свет. Артём остановился, не зная, куда идти. Из конца коридора слева доносился приглушённый звук – не то шёпот, не то шелест. Он двинулся на этот звук.
Дверь в конце коридора была приоткрыта. Лёгким толчком он открыл её и замер.
Бальный зал. Огромное, подковообразное помещение с паркетным полом, зеркалами в позолоченных рамах, покрытых паутиной забвения, и хрустальной люстрой, закутанной в полотно, словно в саван. Но это было не самое странное. В центре зала, на краю импровизированной сцены, отгороженной от зрительских кресел двумя рядами стульев, стоял человек.
Он был невысокого роста, сутулый, одетый в поношенный бархатный пиджак цвета спелой сливы. Его седые, густые волосы были всклокочены, а в длинных, нервных пальцах он сжимал толстую папку. Но когда он повернулся к Артёму, всё остальное перестало иметь значение.
Лицо Василия Горчакова было лицом пророка или безумца. Высокий, изрезанный глубокими морщинами лоб, орлиный нос, тонкий, упрямо сжатый рот. Но главное – глаза. Горящие, пронзительные, почти невыносимые в своей интенсивности. Они были цвета старого золота, янтарные, и в их глубине плясали какие-то тёмные огоньки. Эти глаза не просто смотрели – они сканировали, проникали под кожу, выворачивали душу наизнанку.
– Волков, – произнёс Горчаков. Его голос был низким, бархатным, с лёгкой хрипотцой, и он заполнил собой всё пространство зала, оттеснив тишину. – Вы опаздываете. Время – это ткань, которую мы рвём своими опозданиями. Не делайте этого больше.
Артём не нашёл, что ответить. Он просто стоял, чувствуя себя школьником, пойманным на шалости.
Горчаков медленно подошёл к нему, не сводя горящего взгляда. Он обошёл Артёма кругом, изучая его с ног до головы.
– Да… – протянул он задумчиво. – Да, подходит. Рост. Телосложение. Лицо… особенно глаза. В них есть необходимая пустота. Холод. Вы разочарованы жизнью, Артём Волков? Вам кажется, что мир несправедлив к вам? Что вы заслуживаете большего?
Артём сглотнул. – Я… я просто актёр, который ищет работу.
– Нет! – резко, почти яростно оборвал его Горчаков. – Вы не «просто актёр». Здесь нет «просто» актёров. Здесь есть проводники. Маги. Те, кто способен приоткрыть завесу. Вы думаете, мы будем играть спектакль? Мы будем совершать обряд. Ритуал. Текст, который вы получите, – это не слова. Это ключи. Ключи к дверям, о существовании которых человечество предпочитает не вспоминать.
Он подошёл так близко, что Артём почувствовал его запах – старый парфюм, смешанный с запахом пота и чего-то горького, травяного.
– Пьеса, которую мы будем ставить, называется «Тени забытых предков». Её написал безвестный автор в конце девятнадцатого века. Она никогда не ставилась на сцене. Вернее, ставилась однажды. Результат был… катастрофическим. Но теперь у нас есть шанс всё исправить. Довести до конца. Вы готовы к этому, Волков? Готовы ли вы перестать быть собой и стать проводником для Того, Кто Ждёт за Пределом?
Сердце Артёма бешено колотилось. Всё, что говорил Леха, все слухи и сплетни, оказались правдой. Этот человек был безумен. Но в его безумии была такая гипнотическая сила, такая уверенность, что хотелось верить. Верить в то, что это не бред, а гениальное прозрение.
– Я… я готов работать, – выдохнул Артём.
Горчаков отступил на шаг, и на его лице впервые промелькнуло нечто, отдалённо напоминающее улыбку. Она не сделала его добрее.
– Работать? Вы будете не работать. Вы будете жить этой ролью. Дышать ею. Станете ею. Ваш персонаж – Леонид. Молодой аристократ, который, желая воскресить свою умершую возлюбленную, решает проникнуть в мир мёртвых. Он находит древний гримуар и проводит ритуал. Но он не понимает, что мёртвые не хотят возвращаться. Они хотят, чтобы к ним присоединились живые.
Режиссёр протянул Артёму папку. – Вот ваш экземпляр. Выучите первую сцену к завтрашнему дню. Репетиция в десять утра. Не опаздывайте.
Артём взял папку. Она была тяжёлой, кожаной, с потёртой, почти стёршейся тиснёной надписью на обложке. Листы внутри были пожелтевшими, текст отпечатан на старой пишущей машинке, с многочисленными пометками от руки на полях – острый, нервный почерк, который он сразу признал как почерк Горчакова.
В этот момент в зал вошли другие люди. Их было пятеро. Они вошли тихо, неслышно, словно призраки, вынырнувшие из стен.
– Познакомьтесь с вашими коллегами, – сказал Горчаков, разводя руками, как паук, плетущий паутину. – Наша небольшая, но избранная труппа.
Первой подошла женщина. Лет двадцати восьми, с огненно-рыжими волосами, струящимися по плечам, и бледной, почти фарфоровой кожей. Её глаза, зелёные, как лесная трава после дождя, смотрели на Артёма с открытым, почти дерзким любопытством.
– Алиса Ветринская, – представилась она, протягивая руку. Её рукопожатие было твёрдым, тёплым. – Я играю Веронику. Вашу мёртвую возлюбленную. Надеюсь, вы сможете изобразить страсть по мне.
Она улыбнулась, и в её улыбке была какая-то печаль, не соответствовавшая легкому тону. Артём кивнул, смущённый её красотой и прямотой.
– Виктор Лужский, – представился следующий мужчина. Низкий, коренастый, с лицом боксёра-тяжеловеса и умными, насмешливыми глазами. – Я ваш друг-скептик, Сергей. Тот, кто будет отговаривать вас от безумных идей. В жизни, впрочем, я тоже скептик. Приятно познакомиться.
– Ольга Строганова, – сказала следующая женщина. Пожилая, с гордой осанкой и седыми волосами, уложенными в сложную причёску. Её лицо было маской аристократического спокойствия, но в уголках губ таилась усталость. – Я буду играть вашу тётку, графиню, которая увлекается спиритизмом. Она станет невольной помощницей в вашем тёмном деле.
– Марк Шестов, – пробормотал молодой парень, выглядевший не старше двадцати пяти. Худой, болезненный, с большими испуганными глазами и нервно подёргивающимся веком. – Я… слуга. Эпизод. Но важный.
– И я – Семён, – сказал последний, мужчина лет сорока с невыразительным, но приятным лицом и спокойным, глубоким взглядом. – Я отвечаю за свет и звук. Техническая часть. Но в нашем деле, как говорит маэстро, техника и магия – суть одно.
Артём кивал, запоминая имена и лица. Они были разными, но всех их объединяла одна черта – лёгкая отрешённость, взгляд, устремлённый куда-то внутрь себя. Они уже были погружены в этот странный мир, который создал Горчаков.
– Отлично, – проскрипел Горчаков. – Теперь, когда представления состоялись, приступим к читке. Садитесь.
Он указал на стулья, расставленные полукруглом. Все послушно расселись. Артём пристроился рядом с Алисой, положив папку на колени. Он ощущал её тепло и лёгкий аромат духов – не сладких, а горьковатых, как полынь.
Горчаков устроился в центре, на единственном кресле с высокой спинкой, похожем на трон. Он закрыл глаза, сделал глубокий вдох, и его лицо исказилось гримасой сосредоточенности, почти боли.
– Мы начинаем, – прошептал он. – Не просто читайте слова. Пропускайте их через себя. Чувствуйте их вкус, их тяжесть. Каждое слово этой пьесы – живое. Или, точнее, не совсем мёртвое.
Он кивнул Артёму. – Начинайте. Сцена первая. Кабинет Леонида. Ночь.
Артём открыл папку. Его взгляд упал на текст. Буквы, отпечатанные неровно, с продавленными знаками, казалось, плясали перед глазами. Он сглотнул и начал читать. Его голос, вначале неуверенный, постепенно набирал силу.
«ЛЕОНИД: (один, у камина, в руках у него старинная книга в потёртом кожаном переплёте) …И сказано: да не дерзнёт живой тревожить сон умерших, ибо граница меж мирами столь же тонка, как лепесток, и столь же прочна, как вечность. Но что есть вечность для любви? Что есть запрет для сердца, что вырвано из груди и положено к ногам тени?..»
Текст был странным. Фразы были вычурными, архаичными, но в них была своя, зловещая поэзия. Артём читал, и слова будто оживали на его языке, оставляя горьковатый привкус. Он погружался в образ – отчаявшегося человека, готового на всё ради возвращения любимой.
Когда очередь дошла до Алисы, она начала читать реплики Вероники – призрака, являющегося Леониду. Её голос изменился. Он стал тише, глубже, с лёгкой, леденящей душу вибрацией. Она не просто читала, она словно источала холод.
«ВЕРОНИКА: (голос звучит как эхо) Ты зовёшь меня, Леонид. Но зачем? Моё место не здесь. Там, где я нахожусь, нет ни боли, ни печали. Есть лишь тишина. Глубокая, как океан, тишина. Ты нарушаешь её. Твоё сердце бьётся так громко… оно эхом отдаётся в мире беззвучия…»
Артём смотрел на неё и видел не Алису, а призрака. Её зелёные глаза стали пустыми, бездонными. По его спине пробежал холодок. Это был не просто актёрский этюд. Это было что-то другое.
Читка продолжалась. Виктор Лужский своим грубоватым голосом вносил нотку здравого смысла, Ольга Строганова – таинственности и рокового предзнаменования. Марк Шестов, играющий перепуганного слугу, и вовсе казался настоящим испуганным юнцом, его голос дрожал неподдельно.
Но чем дальше они продвигались, тем более гнетущая атмосфера сгущалась в зале. Воздух становился тяжелее, холоднее. Артёму несколько раз почудилось, что в тёмных углах зала что-то шевелится. Он списывал это на игру света от единственной лампы, которую Семён установил рядом с Горчаковым.
Когда дочитали последнюю реплику первой сцены, воцарилась тишина. Она была ещё более зловещей, чем та, что встретила Артёма в холле.
Горчаков сидел с закрытыми глазами. Его лицо было бледным, на лбу выступили капельки пота.
– Хорошо, – наконец прошептал он, не открывая глаз. – Очень… ощутимо. Вы почувствовали? Присутствие?
Все переглянулись. Никто ничего не сказал.
– Завтра мы начнём мизансценировать, – открыл глаза Горчаков. Его взгляд был мутным, уставшим. – А сейчас – свободны. Артём, останьтесь на минуту.
Актеры молча поднялись и стали расходиться. Алиса на прощанье бросила на Артёма сочувствующий взгляд. Виктор хлопнул его по плечу. Вскоре в зале остались только они вдвоём с режиссёром.
Горчаков подошёл к нему. – Ну? Что вы чувствовали? Когда читали? Когда слушали её? – он кивнул в сторону уходящей Алисы.
– Я… не знаю, – честно ответил Артём. – Текст необычный. И Алиса… она очень талантлива.
– Талантлива? – Горчаков усмехнулся. – Да, конечно. Но дело не в таланте. Дело в восприимчивости. Она – идеальный проводник. Как и вы. Я это вижу. В вас есть трещина. Пустота. В неё может войти нечто большее, чем просто вдохновение.
Он положил руку на папку в руках Артёма. Его пальцы были холодными, как лёд.
– Будьте осторожны с этим текстом. Не читайте его дома. Не читайте его ночью. И никогда, слышите, никогда не произносите его вслух в одиночестве. Он… привлекает внимание.
– Чьё внимание? – спросил Артём, чувствуя, как по коже бегут мурашки.
Горчаков посмотрел на него своими горящими янтарными глазами, и в них на мгновение мелькнул не то ужас, не то восторг.
– Того, для Кого этот спектакль и ставится. Теперь идите. До завтра.
Артём не стал спрашивать больше. Он развернулся и почти побежал к выходу из зала, по коридору, вниз по лестнице. Холодная женщина уже ждала его у двери, держа её открытой. Он выскочил на улицу, и тяжёлый воздух ночной Москвы показался ему на удивление свежим и живительным.
Он шёл по Остоженке, не разбирая дороги, сжимая в руках кожаную папку. Слова Горчакова звенели в его ушах: «Привлекает внимание». Это был бред. Театральная мистификация, чтобы лучше ввести актёров в состояние. Старый трюк.
Но почему тогда он чувствовал этот леденящий холод у себя за спиной? Почему ему казалось, что из тёмных окон особняка за ним кто-то наблюдает?
Он добрался до своей маленькой квартирки в Черемушках, захлопнул дверь и прислонился к ней спиной, закрыв глаза. Квартира была его крепостью, единственным местом, где он чувствовал себя в безопасности. Он заварил крепкий чай, сел за кухонный стол и открыл папку.
Текст пьесы «Тени забытых предков» лежал перед ним. Помимо основного текста, на полях были многочисленные пометки Горчакова. «Здесь – пауза, но не молчание, а слушание», «Эту фразу произнести шёпотом, глядя в третью кулису слева – там всегда кто-то есть», «На этом слове сердце должно замирать».
Артём перелистнул страницу и увидел, что к пьесе прилагались дополнительные материалы – выдержки из каких-то гримуаров, схемы символов, напоминающие пентаграммы, но более сложные и витиеватые. На одной из схем был изображён человек в центре круга, а вокруг – множество протянутых к нему рук из тени.
Он с отвращением отодвинул папку. Это переходило все границы. Это было уже не искусство, а какая-то оккультная ерунда. «Никогда не произносите его вслух в одиночестве». Глупости.
Желая доказать самому себе, что он не поддаётся на эту дешёвую мистику, Артём встал, взял папку и громко, с вызовом, начал читать монолог Леонида, который им предстояло разбирать завтра.
«…И призываю я силы, что пребывают во тьме меж мирами! Силы забвения и вечного сна! Услышьте голос мой! Я, живой, дерзаю ступить на ваш порог! Я приношу в дар свою тоску, свою боль, своё сердце, что бьётся в груди в надежде и страхе! Явитесь! Дайте мне знак!»
Он стоял посреди тёмной гостиной, его голос гулко отдавался в пустой квартире. Он ждал, что почувствует – возможно, лёгкую дрожь, возможно, глупое смущение. Но он не ожидал, что произойдёт следующее.
Лампа на столе мигнула и погасла. Комната погрузилась в кромешную тьму. Одновременно с этим Артём почувствовал резкий, пронзительный холод. Не просто холодный воздух, а леденящее дуновение, исходящее из угла комнаты. И в этом углу, в густой тени, ему почудилось движение. Что-то тёмное, бесформенное, но огромное, шевельнулось и замерло, уставившись на него парой точек, в которых не было ни капли света.
Сердце Артёма замерло. Он не дышал. Он смотрел в угол, и его охватил первобытный, животный ужас. Он чувствовал присутствие. Чужое, враждебное, невыразимо древнее.
И тогда из угла, из той самой тени, донёсся звук. Тихий, едва различимый, похожий на скрип старого дерева. Но через мгновение Артём с ужасом осознал, что это был не скрип. Это был шёпот. Один-единственный, растянутый, пронизанный ледяным злобой слог:
«Вхо-о-о-д…»
Лампа снова зажглась. Комната была пуста. Холод отступил. Но запах – сладковатый, тлетворный запах тления и ладана – висел в воздухе ещё несколько секунд.
Артём стоял, дрожа всем телом, не в силах пошевелиться. Папка с пьесой выпала у него из рук и с глухим стуком упала на пол.
Он понял, что Горчаков не шутил. Игра уже началась. И ставка в этой игре была не карьерой, не славой и не деньгами. Ставкой была его жизнь. И, возможно, его душа.
Глава вторая. Кости и шепот
Первые лучи утреннего солнца, бледные и жидкие, безуспешно пытались пробиться сквозь слои пыли на окне Артёма. Он сидел на краю кровати, уставившись в пустоту, и медленно, с трудом, возвращался в реальность. Руки его всё ещё дрожали. Во рту стоял вкус меди и страха.
Он не спал всю ночь. После того, как свет зажёгся, а ледяное присутствие исчезло, он провёл несколько часов, застыв у стены, не в силах сдвинуться с места. Потом, уже под утро, он собрал все свои силы, чтобы поднять с пола папку с пьесой. Он сделал это с отвращением, будто брал в руки ядовитую змею. Папка лежала теперь на столе, и её потёртая кожаная обложка казалась ему зловещим глазом, наблюдающим за ним.
«Вхо-о-о-д…»
Этот шёпот звенел в его ушах, навязчивый и неумолимый. Он пытался убедить себя, что это была галлюцинация. Нервное истощение, переутомление, внушение после странного разговора с Горчаковым. Но его всё тело, его инстинкты кричали обратное. Это было реально. Что-то пришло. Что-то ответило на его вызов.
Он посмотрел на часы. Без пятнадцати десять. Репетиция в десять. Мысль о возвращении в тот особняк, о встрече с горящим взглядом Горчакова и бледными, отрешёнными лицами актёров вызывала у него приступ тошноты. Но мысль о том, чтобы остаться здесь, один на один с этой папкой и с памятью о вчерашней ночи, была ещё страшнее. Горчаков знал. Он предупреждал. Значит, у него могли быть ответы. Или, по крайней мере, иллюзия защиты.
Собрав волю в кулак, Артём принял ледяной душ, который немного привёл его в чувство. Он оделся во всё тёмное, словно собираясь на похороны. Последним, что он сделал перед выходом, был нервный взгляд на папку. Он не мог оставить её здесь, но и брать с собой не хотел. В конце концов, он сунул её в свой поношенный рюкзак, чувствуя себя так, будто нёс в себе бомбу.
Дорога до Остоженки пролетела в тумане. Он не замечал ни людей в метро, ни уличного шума. Он был внутри себя, в замкнутом кругу страха и отчаяния. Подойдя к чёрному забору с пиками, он на мгновение замер, глядя на мрачный особняк. Сегодня он казался ещё более враждебным. Плющ на стенах теперь выглядел не как украшение, а как цепи, сковывающие древнее зло. Стрельчатые окна напоминали пустые глазницы черепа.
Дверь с головой химеры была закрыта. Артём сжал молоток, чувствуя холод металла сквозь перчатку. Он ударил один раз, и звук снова ушёл внутрь, не получив отклика в мире живых. Но на этот раз дверь открылась почти сразу. В проёме снова стояла та же худая женщина в чёрном. Её бледное, невыразительное лицо было точной копией вчерашнего.
– Вы опаздываете на три минуты, – произнесла она ровным, безжизненным тоном. – Маэстро не любит, когда нарушают его расписание.
Артём лишь кивнул и шагнул внутрь. Гробовая тишина и запах ладана с тлением снова обволакивали его, но на этот раз в этом был почти что уют. По крайней мере, здесь он был не один.
– Репетиция в бальном зале, – сказала женщина и, развернувшись, поплыла вперёд по коридору, указывая ему путь.
Они поднялись по лестнице. Сегодня в коридоре второго этажа горело больше бра, но их тусклый, мерцающий свет лишь подчёркивал глубину теней. Из-за двери бального зала доносились приглушённые голоса. Женщина отворила дверь и пропустила Артёма внутрь, после чего бесшумно исчезла.