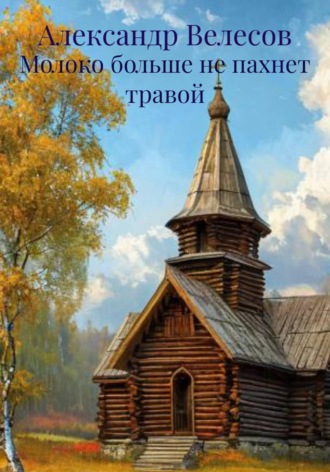
Полная версия
Молоко больше не пахнет травой
Супруга Василия Антипыча, Полина поседела тогда за день. Но благо в Закавказье Советская власть немного шла с опозданием, а там между Ставропольем и городом Ветров ездил двоюрдный брат Василия Антипыча, занимаясь скупкой мяса, а он их давно еще к себе звал.
На сборы у них всего лишь два дня было, и, взяв с собой, что смогли в товарном вагоне они поехали далеко-далеко… за Кавказкие горы, в город Нефти и Ветров, на новую родину.
А через три года после их исхода в Город Ветров, супругу Василия Антипыча парализовало на долгих пятнадцать лет.
А Василий Антипыч не в силах видеть свою жену в таком виде, стал еще больше верующим человеком и одним из первых христианских проповедников Божьего Слова, благо, что этих новых для них мест не коснулись страшные гонения какие были в центральной России.
Дети их росли, а старшие уже и совсем взрослыми были и с первых дней бросились помогать семье. Кто-то уже и замуж выйдет, а кто-то и женится …
А молодая Анна Черникова познакомилась с Петром Ивановым. Как-то быстро случилось, что женились они. Свекровь звала Анну по простому Нюра и сразу невзлюбила всю ее семью, считая, что Петр должен был взять себе в жены из молоканской общины, да и вообще для нее все Черниковы были классово неприемлемыми для нее людьми «антиллегенция вшивая», говорила она про них или еще называя их также малохольными. Хотя и она себя считала, чуть ли не бывшей помещицей, вспоминая со слезами то время, когда ее семья держала батраков.
Молоканские обычаи сильно отразились на характере бабки Иванихи, а жестокое время превратило ее в вечно брюзжащего на все человека.
Называя семью Черниковых презрительно «антиллегенцией вшивой», бабка Иваниха могла сама сесть в своем длинном сарафане наземь посреди бела дня не стесняясь при этом народ честной, сделать свое дело, а проще сходить по маленькому, встать и уйти как ни в чем не бывало восвояси.
Так на место самого почитаемого напитка молоканами коровьего молока стала приходить водка или самогон.
Потому и стал говаривать в сердцах дед Федор муж бабки Иванихи:
– Молоко нынче больше не пахнет травой. Это не то, что в старину не то, что бабы, а мужики водку не пили, а сейчас?… Эээххх.
Это он все говорил из-за того, что бабка могла в праздник опрокинуть в себя рюмку, а то и другую. Но дед Федор сам побаивался бабку и потому не встревал в это дело.
– Могет водку кушать, пущай себе кушает … – только и говорил он.
Бабка Иваниха, а в миру, Клавдия Григорьевна итак не любила сына, а после женитьбы на Нюрке, как она называла сноху, стала так же не любить еще и его двух дочек.
Ближе к старости Клавдия Григорьевна почти перестала общаться с невесткой, ушла совсем от своих дел и все больше занималась целительством, а кое-где и вредительством, смотря сколько могли ей заплатить. Поговаривали, что она ведуньей была еще той…, но не гнушались водить к ней при этом деток хворых своих соседи.
Так и встретила этот мир, появившаяся сначала на свет мертвой, синюшного цвета Надюша.
Старая повитуха, работавшая нянькой в больнице, вернула к жизни маленькую девочку. Правда сердечко у Надюши так и осталось больным.
Но слабое, так и оставшееся раненным, маленькое ее сердечко было наполнено чистой, светлой любовью ко всему живому, что было на этом свете.
Маленькая Надюша росла и восхищалась деревьями, травой муравой, цветами, птицами, солнышком, морем, на которое ее повезла потом мать.
Все, что видела она любила.
А еще Надюша помнила всю свою жизнь, как ее папку жестоко избил его отец с двумя старшими братьями Петра.
Тогда она впервые для себя поняла, что есть в этом мире и что-то очень и очень плохое, жестокое, черное …
Это случилось еще до того как посадили папку. Гуляла тогда папкина родня, Нюры дома не было, она у сестер была, через две улицы, на Девятой Нагорной. Пила ее родня много тогда, и все водки одной.
Надюша дома была, а Валентина ушла куда-то. Надюша хоть и мала совсем была, но помнила, как крики во дворе раздались дикие, и грохот. Выбежала она и видит, как отца ее бьют и все по голове, да табуретами дубовыми. Бил дед Федор и два брата старших, дядьки ее родные.
А отец ее хоть и здоровым, да крепким мужиком был и спортом до войны занимался и не каким-нибудь, а борьбой греко-римской, да перед родными смиренным был. Воспитание не какое-нибудь было у него, а веры отцовой, молоканской, а у них против старших слова не было. Старшие все решали и в общине и в семье. Старшие баловать могли и наказывать.
Не знала Надюша тогда, что случилось, но видела, как на ее глазах жестоко били папку табуретами, да деревянными оглоблями.
Вскоре папка ее весь в крови стал, и еле-еле дополз до двери своего дома, получая по спине дубинами. И с маленькой Надюшой случилась истерика. Плакала тогда маленькая девочка навзрыд и долго успокоиться не могла, до того ей жалко было отца. «Папка! Папка!» кричала она. Бедненькая, так переживала за папку, что стала терять сознание от плача и уже глаза закатывать пока, прибежавшая мать, ее не успокоила, взяв на руки, и причитая: ну что ж ты миленькая, не плачь родимая наша. Не плачь. Бабку она после того сильно бояться стала и даже вздрагивала когда видела ее рядом. Бабка Иваниха вместо того, чтобы разнимать сыновей, все больше улюлюкала и хохотала как одержимая, а папка лежал на полу и стонал истекая кровью.
Много воды утекло после того, как это случилось, и только потом уже, когда стала Надюша взрослой, папка поведал ей, что даже когда совсем малой был бабка, то бишь мать его посылала одного единственного из братьев спать в хлеву вместе с овцами да козами. Это было, когда они в деревне молоканской жили. И никогда она сына не жаловала.
И отчего бабка Иваниха сына своего младшего так не любила, Надюша никогда и не узнала, но поняла тогда лишь одно, что раз папку ее бабка не любила, то значит и его отпрысков тоже никогда так и не приняла.
Пока отец был еще в тюрьме, первым на фронт забрали старшего дядьку Николая, потом среднего Ивана, а потом еще двух ее двоюрдных дядек, Макара и Демьяна, совсем еще юного молодого парня, которого все звали почему-то Дейкой и, который был начинающим художником.
Семья ее двоюрдных дядек жила в соседнем дворе, но Дейку Надюша любила. Добрый светлый парень, вечно улыбающийся, называвший маленькую племянницу Лялечкой. Он первым и назвал ее так, а потом и все остальные, а его голубые глаза всегда сверкали при этом.
Дядек на фронт провожали всем двором. Надюша никогда потом не могла забыть тот день, когда молодой и красивый Дейка погладил ее по голове, и как бы ко всем сказал:
– Ну, а там, как говорят, или грудь в крестах или голова в кустах.
Больше Надюша Дейку в своей жизни никогда не видела. Другие дядьки вернулись, но Дейка так и сгинул на войне. Позже узнала она, что он пропал без вести на второй месяц войны. Было ему тогда всего восемнадцать лет. Остались после Дейки только два десятка написанных им картин.
За отцом ее пришли через неделю, как освободили его. Отец Петр любил дочку сильно. Поднял ее и сказал только одно,
– Мамку слушайся.
Бабка Иваниха померла в самом конце войны. Последняя кто видела ее еще бодрой, была жена сына ее, на фронт ушедшего, Наталья. Баба была дородная, прямо кровь с молоком, и фигура и телеса, на которые любили засматриваться татары или как они сами себя называли, азербайджанцами с аулов, торгующие на базаре. Их мужики особливо таких баб любили, и как сама про себя любила говорить Наталья, на меня чернота пялиться любют из-за жопы моей… Как тока на базар захожу, у них аж слюни течь начинають …,
А Наталья и красива была тоже, черноокая, скуластая немного и волосы до пят.
Вот и не выдержала она. Пошла по рукам, и все больше с татарами с базара. Стала и деток бросать и из дому убегать.
– Муж в Тверь, а жена в дверь?! – говорил в сердцах ее свекор Федор, – Что скажешь Ваньке, когда с фронта то вернеться? Ась? – в сердцах говорил он ей, когда в очередной раз она, отдавая дочку с сыном жене другого брата, нафуфыривалась и уходила вечером из дома.
– А то и скажу… Люби меня такой –оооййй, как есть … – песней смеясь отвечала она.
– Тьфу! Дура ты и есть дура!
А утром Наташка приходила пьяненькая, уставшая.
– Охх ушаталась я … Ох ушаталась – сокрушалась она, а потом падала на кровать и засыпала.
И так изо дня в день, пока не получила она письмо от Ваньки, что в госпитале с ранением лежит аж в Рязани, и видно кто-то доложил все же ему о похождениях бабы своей, потому как в конце отвечает он ей, что дескать его комиссуют из-за ранения, но домой он не вернется, жить с ней больше не будет и остается в Рязани. А Ванька хорошим машинистом был, еще в Баку всегда хорошие деньги зарабатывал, а Наташке то детей растить надо, а без мужика то как…? Татарва, как называли в те года азербайджанцев, бывало угостят ее и даже с базару детям и овощей надают, напоят ее, попользуют и все …бывай как знаешь, а свой мужик есть свой …
Задумалась, закручинилась Наталья и кинулась к свекрови своей,
– Что делать мне мать? Что делать? Не могу жить без Ваньки! Люблю его! Верни мне мужа! Прошу верни! Детки без папки останутся! Внуки твои! – причитала она.
Бабка Иваниха долго так, исподлобья глядела на нее, а потом и говорит:
– А ты что ж, окаянная, хотела? Иль думала, что манда твоя золотая, и бабу себе он не сыщет. Шмара ты, и есть шмара… Блядина одним словом … Там в Рязани то той щщщас и найдет себе женку то новую, а сына свого я знаю. Он мужик видный и хоть раненный, а мужиков щщас нет… Все воюють…, а он машинист хороший и тама на работу пойдет, а ты вот смотри, что видишь, то получишь… Шмара ты подзаборная. Шалава! – показала бабка Наташке кукишь.
– Помоги мать … Помоги… – стонала на коленях обливаясь слезами Наталья, – Деток ради… Прости мать… Прости.
Долго еще материла рыдающую Наталью бабка, а потом замолчала, долго молчала и говорит ей после:
– Ладно помогу тэбе перед смертью, помирать мне скоро, и потому ты должна будешь и для мене кое-что сделать. Дай слово мене, прям щщщас, что сделаешь, – грозно говорила ей бабка.
– Все, мать, сделаю, все! Клянусь тебе!
– Ну смотри, коль обманешь, то прямо помирая, прокляну тэбе, шалава.
– Да мать! Все сделаю!
– Ну слушай тогда, что надобно тэбе сделать будет. Но не думай ты, окаянная, не ради тэбе шалавы, а ради деток. Да и сын не хочу, чтобы так далече жил. Хоть и обидела ты Ванечку моего, да ладно … За этот грех тэбе потом отвечать на том свете. Тэперыча слухай сюды … Через три дня новолуние будет, в полночь подойдешь к трубе печной и начни выть в трубу, аки волчица. Долго вой, а потом кричать в трубу стань: Приди ко мне, Ванечка! Приди ко мне, Ванечка! Приди ко мне, Ванечка! И так три дня кряду, а после собери всю, что есть золу то в печи и закопай ее под осиной. Поняла, окаянная?! – спрашивала ее бабка.
– Да мать! Да! Все сделаю! Все! – говорила ей Наташка, лобызая бабкины ноги.
Бабка же, оттолкнув ее от себя, продолжила:
– Я помру скоро. Ровно через месяц, я знаю это точно.
Когда помирать начну, а помирать я тяжело буду, впаду в беспамятство. Кричать буду, звать людей и просить, чтобы взяли.
– Что взяли, мать? – сквозь рыдания спрашивала ее Наталья.
– Силу мою…силу. Но брать не будет никто… Ты придешь, подойдешь к телу моему и скажешь три разу. Запомни три… Я беру! Я беру! Я беру! А после повернешься, и, ни с кем не говоря и не оглядываясь, выйдешь из хаты. Все поняла то, окаянная?
– Все, мать. Все.
– Ну, а теперь тогда пошла вон отсюдова, шалава, пока я не передумала!
Наташка и сделала все, как велела ей бабка Иваниха, и вскоре, Ваня уже и вернулся к ней со словами такими:Все прощаю тебе! Люблю тебя, и жить с тобой буду, и никто кроме тебя мне не нужен.
И взяла Наташка силу бабкину, а ее девать надобно куда-то, а бабка и лечить могла, а могла и порчу наводить.
Но Наташка лечить никого и не собиралась. В ней алчность проснулась. Видно от татар тех с базару набралась она алчности. Стала колдовать она на людей. Привороты делать, шепотки на скотину, татарве помогать на базаре, чтобы прибыль у тех шла, за деньги конечно.
И на Анну, то есть Нюру, жену брата, которую бабка покойная не любила, тоже стала наводить порчу.
Вот так и стал Петр, вернувшийся с фронта, гулять от жены своей.
– Ну, что Нюрка, жди теперь я тебе устрою! Сгною тебя вместе с семейством твоим, – кричала она своей родственнице.
Анна внимательно так смотрела на нее, а потом спрашивала:
– И что же я тебе сделала?
– А ничего. Просто не люблю тебя и все семейство твое.
Ничего не говорила в ответ ей Анна, а только тихо поворачивалась и уходила, читая про себя Псалмы и молитвы.
– Увидишь, скоро мужик твой от тебя гулять будет! – кричала ей вслед, уже ставшая бесноватой, Наталья.
Много еще зла творила она, пока под поезд то не попала через пятнадцать лет, пьяная вдрызг.
А Петр вернулся с войны хромым.
Рассказывать про войну Петр не любил. Позже, через много лет Надюша узнала от матери, что отец в Сталинградской битве участвовал. Труп на трупе лежал тогда. Русский на немце, немец на русском. Куча изуродованных, убитых, обмороженных и раненных тел. Мороз сильный въедался в кожу своими колючими холодными клещами, а Петра завалили трупами. Немцы потом долго ходили. Все искали своих, выживших. Раненных русских добивали штыками. Живой был Петр тогда. Только оглушенный от взрыва. Так и молчал он, заваленный окровавленными телами, пока немчура ходила. Правую ногу он чувствовать перестал, и пальцы на ней почернели, потом от мороза и их он лишился, после того как добрался почти что ползком до своих. Госпиталь он не забыл, и те три месяца, что провел в нем. Тысячи искалеченных судеб, обрубки тел, ополовиненные люди.
В 1943 году Петра комиссовали по причине здоровья.
В Баку было серо в тот год, неуютно и почему-то все время холодно, несмотря на то, что город был всегда теплым. Пустые улицы, на которых лишь изредка можно было встретить одинокого путника и сырой, влажный ветер, который пронизывал все насквозь. Ветер перекидывал по брусчатке обрывки старых газет, одинокие высохшие колючки непонятно откуда взявшиеся из степи, серую пыль состоящую всю из морского песка. Многие лавки были закрыты, а скудный запас продуктов выдавали по карточкам.
Летом же город был пыльным и до того жарким, что люди видели, как воздух плавился над черной, залитой мазутом дорогой, и запах нефти стоял над всем городом, будто покрывая его плотным мазутно-бензиновым колпаком.
Петр сразу по демобилизации устроился водителем на местный винно-водочный завод и, вскоре, в доме снова стали появляться какие-никакие продукты.
Где Петр принесет заводской паек, где Анна сбегает на рынок и принесет свежей морской рыбы, которую продавали за копейки.
Мать Надюши, Анна Черникова, была из очень верующей, богомольной семьи, и даже Советская власть, прошедшая богоборческим топором по всем верующим людям, не смогла сломать веру в ее душе.
Часто дочки ее вспоминали, как ходили по дворам и вели опрос по поводу атеистического воспитания молодежи.
Хмурый усатый партийный работник в сером пальто аккуратно все писал в большую тетрадь, тщательно отмечая каждый дом и каждую улицу.
– В Бога верите гражданка Иванова? – насуплено спрашивал он, внимательно смотря на Нюру, на пороге ее дома.
– Верила и буду верить! – выставив вперед ногу, жестко отвечала Анна Васильевна.
– Пошли, пошли отсюда, – заверещав тут же, ушел со двора партийный работник, а с ним и две женщины из местного профсоюза.
Василий Антипыч ушел в мир иной после смерти своей Полины, через десять лет.
Ездил уже давно седовласый старик по местам бывшей царской Елизавето-польской губернии, а теперь окраине Советского Союза, читал проповеди о Боге. За это много раз был гоним Советской властью, а то и бит, даже в застенках бакинского ОГПУ.
А застыл он во время проповеди на стуле в одном из таких поселений. Одни глаза его продолжали смотреть на этот мир, все такой же кротостью и смирением ко всему, что выдала жестокая судьба-гадина его семье, лишив отчего дома, запаха русской земли и воздуха, которым они дышали когда-то.
Похоронили Василия Антипыча на русском небольшом кладбище в Набрани, был там такой поселок в лесу, недалеко от Каспийского моря.
Земля же, которая когда-то приняла их к себе, хоть и была окраиной бывшей Российской империи, да только приняла переселенцев поначалу неприветливо и может даже слишком зло. Вспоминала потом, спустя многие годы Анна Васильевна, рассказывая своим внукам:
– Помню, идем мы с сестрами по Шестой Нагорной поселка нашего, а за углом местные татары стоят, ножи выставили, машут ими и что-то, на своем кричат в нашу сторону, а мы девки не из пугливых были, и в ответ им, как учил дядька наш, папкин брат Алексей Антипыч: Тарбара тарам Бардам!
Он сказал, что, дескать, понять они не поймут, что сказали Вы, да за то таких слов тарабарских спужаются и к Вам больше не подойдут.
Полина Владиславская долгие годы пролежала парализованной, тем не менее, не потеряла своего гордого взгляда, одряхлев на своей кровати, еще больше стала походить на истинную графиню, хоть и лишенную титула, статуса, уважения. Всего, кроме внутреннего достоинства, доставшегося ей от старинного рода польской шляхты.
Две старшие ее дочери Лидия и Сара, сестры анны так и не вышли замуж, отдав всю себя своей матери.
– Помню мамочка наша перед смертью посмотрела на меня и как будто что-то сказать хотела, а отец в одном из районов был тогда. Видно его взглядом искала. Бедная мамочка, что-только не выпало на долю ее … Царство ей небесное, – рассказывала потом ее дочка.
Уходил род … Замыкая в себе целую эпоху, целый круг жизни. Но только не затухнет род все равно на веки.
Останеться дух его в новых душах и пройдет он через кровь, которая разлившись в молоке отметит приход новых годин, новых скрижалей истории, ее закрученных узлов времени … Истории которой не будет конца пока живет память в ком то из потомков этого рода.
РАДЕНИЯ и ИСХОД.
Марьюшка стала теперь красивой статной девушкой и все в ней ладно было. И длинные слегка волнистые волосы спадающие до талии, и румяные щеки и большие ресницы и глаза с волшебной поволокой смотрящие на все немного с удивлением.
И женихи все табуном ходили вокруг, да все для нее это ненужно было. Марьюшка все больше любила ходить послушать старцев о Боге, о апостолах Божьих и по хозяйству работать, матери помогать.
– Марьюшка! Марьюшка! – услышала она как то утром голос одной из своих подруг Параскевы.
– Шо тебе?! – закричала Марьюшка из хлеву.
– Поди ка! Марьюшка! – не унималась Параскева.
– Вот пристала оголтелая! – отвечала Марья, но вышла со двора к подруге, – Шо тебе чумовая?
– Пошли со мной сегодня до Сретенки?
– , а шо там такого? – спрашивала Марья исподлобья глядя на подругу, держа в руке деревянное коромысло.
– Тама у них радения проходят. Они тама не как у нас … – улыбаясь какой то явно новой улыбкой говорила Параскева.
– , а как тама?
– Тама они Господа знают. Мы то все сиднем сидим, да старца слушаем. Все чинно у нас, да только не по душе мне это.
– , а как же ты туда попала? Хотя у тебя в Сретенке родня вроде …? – говорила Марья кладя коромысло на землю. – И как же они тама Господа знают?
– -А я у них ужо как два раза была. Меня моя тетка Пелагея то и свела туда. Они себя хлыстами кличут и радения у них такие интересные.
– , а шо за радения таки ещще? – продолжала спрашивать Марьюшка.
– -А это у них таки помыслы Божьи, тама все в пляс уходят, с молитвами, да с песнями. Долго у них это все, да знаешь как хорошо то потом, а посля все чаевничают, мед, пряники да конфеты угощаються и хлопцы тама все такие пригожие, – зардевшись говорила Параскева.
– – Больно нужны мне твои хлопцы, – отвечала ей Марьюшка, —
Ладно пойдем, тока давай завтра. Сегодня дела доделаю, а потом и сходим. Мамке скажу я и пойдем.
– -Хорошо быть тому, – сказала Параскева и ушла.
Рано поутру выпив молока на дорожку девки ушли по Свинячей дороге до Сретенки.
Свинячая дорога такое свое название получила с давних пор. Дорога шла через сосновый лес мимо Болотного оврага и идти до Сретенки было около часу. Была такая история и очень старинная, что когда то в незапамятные времена шел по этой дороге странник паломник со святых мест. Долго шел через лес, а дорога пустынная была и по ней местные крестьяне ходить не любили.
А дело к ночи шло … Смеркалось уже …В лесу итак темно было, а тут еще больше, но странник осеняя себя знамением крестным продолжал идти, рассчитывая скоро добраться до ближайшей деревни. И пока шел читал Псалом Святой, а темень все сгущалась вокруг и тени обретая причудливо угловатые формы ложились на дорогу вокруг него.
Внезапно за поворотом увидел странник большое темное пятно на дороге, подумав что перед ним лежит свалившееся дерево.
А странник как подлинно известно был христианином правоверным православным и еще раз перекрестившись медленно приблизился к тому большому и темному предмету, что лежало посреди дороги.
– Святый Боже! Святый крепкий! Святый Бессмертный помииилуй наас! – пел он себе при этом под нос.
Вскоре темный предмет сформировался в огромного мертвого хряка. Странник осторожно приблизившись к трупу борова с удивлением обратил внимание на невероятно огромные размеры последнего. Боров лежал распластавшись посредине дороги, полностью перегородив ее. Странник начал оглядываться вокруг, пытаясь понять откуда на дороге, посреди леса оказался сей мертвый свин.
, Странно, – – подумал он, Откуда ж он взялся здесь? Если только с телеги выпал …,
Хряк действительно был слишком большим по своим размерам. Паломник обошел его вокруг и был немало удивлен тому как хряк лежал на земле. Копыта в растопырку, а огромная голова была повернута набок и пасть борова улыбалась в предсмертной агонии совсем по человечи.
– Ишь ты прямо похож на мельника нашего Пантелея, такая же морда после бодуна как. Ладно пора дальше идти, а то уже совсем скоро темно станет, – все это пробубнил вслух странник, озираясь по сторонам и уже было собрался идти дальше как вдруг заметил, что один глаз хряка как подмигнул ему.
Но подумав, что ему померещилось он двинулся дальше, а в это время стало совсем темно, но дорогу через некоторое осветила все-такиполная луна вышедшая из-за небольшого облака.
Странник продолжал свой путь и вдруг снова увидел возникшее вдали большое темное пятно.
Приблизившись странник пришел в замешательство признав в темном предмете, который уже освещала холодная луна все того же мертвого хряка.
, Как так? Может заплутал я? Вроде и шел прямо все время …, – думал он.
Странник был человеком не из робкого десятка и когда то прошел службу в армии и еще он всегда уповал на молитвы, а тут вот какое внутреннее беспокойство начало свербить его изнутри. Один в лесу, на дороге и тут мертвый боров этот …
Снова перекрестившись странник обошел эту гору мертвого свина и двинулся дальше. Однако пройдя совсем немного он опять очутился перед мертвой тушей свиньи. Тут уж страннику стало совсем не до смеха, если не сказать большее смятение начало овладевать им.
Странник даже потрогал висевший за поясом походный нож, который в чем то немного и придал ему какой то уверенности.
Он вновь решил обойти тушу вдоль обочины и проходя мимо громадной башки свина краем глаза посмотрел на нее. Холод прошел по спине его и ноги стали такими вязкими будто увязли в болоте.
– Святый Божеее! Святый крее…п киий! – слабым голосом затянул он.
Морда хряка в упор смотрела на него, улыбалась во всю клыкастую пасть и один глаз явно вновь подмигнул ему.
Но еле еле опираясь на палку странник продолжал обходить тушу как услышал голос исходящий от мертвого казалось бы хряка.
– – Пошто жинку свою Фросю загубил?, а теперь в странники Божьи поддался??? Гы Гы Гы!!! – заголосила голова борова заходясь в диком и нелепом смехе.
Странник забыв же обо все бросился бежать. И снова стало тихо в этом месте, посреди леса, на дороге залитой блекло бледным лунным светом, освещающим большую бесформенную тушу мертвого хряка с оскаленной улыбкой своей свинячей морды.
Утром проезжавшие через лес крестьяне встретили на дороге тронувшегося умом странника с остекленевшим взглядом повторявшего одни и те же слова,
– -Свин Хрякович мой друг Борович! Свин Хрякович мой друг Борович!
С того дня все и прозвали эту дорогу Свинячей.
И вот утром рано спозаранку и выдвинулись Марьюшка с Параскевой по Свинячей дороги в сторону далекого села Сретенки.
– , а мамке что сказала? Куды пошла? – спрашивала Параскева Марьюшку.
– Да я мамке все дела поделала и сказала ей, что на ярмарку идем, – отвечала Марьюшка.








