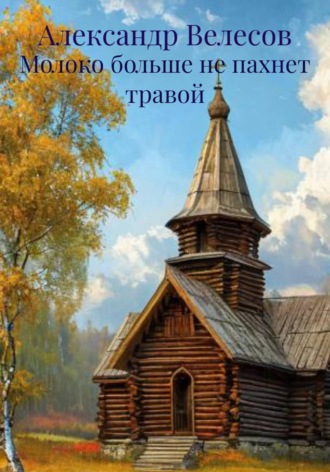
Полная версия
Молоко больше не пахнет травой

Александр Велесов
Молоко больше не пахнет травой
Молоко больше не пахнет травой
Сию книгу посвящаю маме моей.
Смысл бытия ищет каждый из нас, но не каждый может найти. Это история о том, как несколько веков назад в неком роду русских молокан родилась девочка, которой суждено было стать Великой Целительницей. Рождение этой девочки предопределило появление в середине двадцатого века, в этом же роду, девочки, которой суждено было стать уже православной святой. Перехлест двух эпох… Первая эпоха это гонение на молокан царской властью и их исход через много тысяч верст на южные земли. Вторая эпоха, время от двадцатых годов двадцатого века до нашего времени. Две судьбы… Две драмы… Два пути, которые, пронзая века удивительным образом, переплетены у этих героинь. И вечная борьба добра и зла на пути познания Бога.
НАЧАЛО.
Сначала был голос… Он разливался в утренней тишине, наполняя все вокруг нежностью, чистой светлой радостью и счастьем. Она просто пела… Но ее песня была не простой, в ней воспевалось все, что окружало ее, и в чем она видела творения ее любимого Боженьки. Пела, голос ее стелился мягким и обволакивающим звуком, расстилаясь по утренней траве, словно легкая дымка, нежная и слегка прозрачная. Везде стоял запах чистой, девственной природы, который слышался повсюду, проникал везде своей безукоризненной и ровной, как будто отточенной свежестью первородного чистого счастья.
Она стояла на лугу возле своей избы, воздев руки к небу, навстречу струящимся лучам восходящего солнца, блики которого осыпали ее, превращая в блестящий кокон яркого света.
Ее светлые волосы, рассыпаясь по телу, вспыхивали и горели, словно и сами были такими же солнечными лучами.
А она брала этот солнечный свет руками и поливала себя, будто это была родниковая вода для нее, в каждой капле, которой застыло небесное светило.
– Мама! Мама! Я пою! Я пою! Солнышко! Какое счастье! Солнышко! – и лицо ее светилось тоже как солнце.
– Марья! Марья! Ты где окаянная?! – вздрогнула она от зычного голоса своей мамки, раздавшегося из избы.
Девушка сначала застыла в оцепенении, потом слегка сжалась, напряглась и, резко повернувшись, вбежала в дом.
Молоко.
– Марья молока неси!
Голос мамки …Обычно строгий, даже какой-то тяжелый и липкий, как и сама тяжелая поступь Глафиры. Смотрела Глафира всегда исподлобья и взгляд ее будто прилипал к Марье, сверлил ее насквозь, как будто вгрызался в нее, словно в молодую березовую поросль.
– Давай быстрей, оголтелая! – всегда подгоняла Глафира свою дочь, хотя и та без мамкиного приказа летала, порхала, носилась повсюду.
– Скоро мужики с поля придут, а нам еще блины ставить!
– Ща! Ща! – бормоча себе под нос, носилась уже по избе Марья.
– Да сметаны с погреба доставай, девка оголтелая! – кричала на нее мать.
– Мам, а дядька Терентий сегодня прибудут?
– К полудню прибудут! К полудню!
– Они так сладко про Боженьку нам ведают! Так душевно! – бегая по избе, верещала Марья.
– Мала ты еще о небесях трещать! Тащщщи то, что велено, – ворчала ее мать.
– Щщщас, маменька! Щщщас! – суетливо кричала Марья, бегая с места на место.
– Мала ты еще, и небеся твои здесь пока. Вон тутя горшки, да поварешки, а ешше животинка всякая, за которой ходить надобно и матери своей помогать, а Господь он итак нас слышит, он тут с нами всегда.
– Щщщщас маменька! Щщщщас!
Скоро на большом дубовом столе в горнице стояла крынка молока, жбан с густой желтой сметаной …, дымились на глиняной тарелке блины, а Глафира поставила в середину стола еще и дымящийся горшок с лапшевником из печи.
– Щщщас уже придут наши мужики, и дядька Терентий приведет Божьих человеков как обещался, – бубнила теперь уже под нос и Глафира.
Вскоре в сени тяжелой поступью вошел и сам хозяин дома Селиван Гурьев. Большой статный, достаточно еще молодой мужик с ровными, хотя, и немного округлыми чертами лица, рыжей бородой-лопатой и глубоко посаженными синими глазами, смотревшими на все исподлобья своих нависших густых рыжих ресниц.
За ним прихрамывая, как-то боком, ковыляя, вошел дядька Терентий, родной брат покойного отца Селивана. Слегка сутулый, согнутый от тяжелой крестьянской жизни, дядька Терентий сохранил свой гордый взгляд свободного человека, хоть, и давно придавленного земными заботами.
Следом, немного испуганно, вошли в избу два брата Марьи. Отроки молодые были, с редким пушком над губами, но таким же отцовым взглядом на все смотрящими исподлобья.
– Ну и где ж твои Божьи люди? – подбоченясь, спросила Терентия Глафира.
– Щщщас будут. Ужо недалеко они. По дороге идут к нам, – как-то важно произнес дядька Терентий.
– Давай проходь, Терентий, – молвил Селиван, – Сидай.
– Идут батя! Ужо тут! – пронзительным голосом завопил один из братьев.
В сенях послышался скрип половых досок, кряхтение, шепот и вслед за братьями в избе появился сначала один человек, а за ним и другой. Это были два старца, одинаково одетые в черные длинные рубахи, ставшие серыми от дорожной пыли. День был жарким, и с их лиц струились капли пота, и оттого их седовато желтые бороды прилипли к одежде.
– Мать водицы б нам напиться, – глухим голосом произнес тот, что вошел первым, и он отойдя немного в сторону поклонился сначала хозяевам дома, а потом снова проговорил,
– Вот это отец наш Божий человек афанасий, – показал кивком своей головы на старого седовласого своего спутника, который, по-видимому, был наполовину незряч, потому как смотрел на все, сильно щурясь.
– , а я его поводырь, Федор …
Глафира тут же крикнула:
– Марья! Водицы да побыстрей Божьим человекам!
Напившись воды, старцы уселись за столом.
– Отведайте нашенского теперь кушанья, – басом сказал хозяин дома Селиван.
– Отец афанасий должон пропеть песню – молитву, – сказал первый старец, – , а потом и вкушать будем.
Отец афанасий, встав, начал тянуть один из святых псалмов, и, в конце перейдя на обычную речь, сказал,
– Благословляем еду эту Светом Божьим. Вкушайте люди добрые.
Все чинно расселись за большим столом, грубо выдолбленным из цельного дерева.
Каждому были выданы большие деревянные ложки, которыми они стали черпать из большого глиняного горшка густой наваристый лапшевник. От еды шел вкусный и липкий запах. Старец афанасий долго дул на ложку с лапшевником, а потом, мелкими глотками, прихлебывая со свистом, втягивал в себя густое варево.
Вскоре в ход и блины пошли со сметаной. Запивали все густым свежевыдоенным молоком.
– Хороша видно корова, – с кряхтением произнес отец афанасий, – Больно молоко ейное вкусное. Давненько мы с тобой Федор такого молока, да сметаны не едали.
– Давненько, – аж зажмурившись, произнес Федор
– Не молоко, а ляпота, – снова говаривал афанасий.
– Ляпота, – вторил за ним Федор.
– Медку, медку кушайте люди добрые, – почти шепотом сказала Глафира.
– Молчи мать! – прикрикнул на жену Селиван, – Они сами знают, что им надобно.
– Корова она как матушка для нас родная, – произнес снова отец афанасий.
Все сразу застыли, видно понимая, что настало очередь для слово божьего.
– Ну что люди дорогие, прошло время пищи людской, настало время и для пищи Божьей, – услышали все старый трескучий голос отца афанасия.
И услышали они в тот час беседу с Богом. Будто сам Господь Всевышний вещал с ними, через измотанный судьбой избитый тяжелой крестьянской жизнью, голоса отца Афанасия.
– Вот так, люди добрые… – вздыхая, говорил он. – И потому наши отцы праведные дают нам заветы и те заветы пришли не через попов и резники их златые, а через веру в Господа Бога и часть его в каждом из нас сидит. Тока не видим мы его… Спим потому как, а проснуться не могем, нету сил на это… Силы все забрали они у нас, а Господь Спас Наш Праведный, пришел в этот мир голый, и не он храмы златые заведовал ставить. Ту церкву люди придумали… Чтобы нас человеков, не Богу служить, а таким же людям, которые себя на место Бога то и поставили.
Долго говорил старец афанасий, каждое слово продумывал, и каждую мысль свою будто в себе задерживал, ставя ее на одну чашу весов со своими и людскими деяниями.
Потом замолчал он … И все молчали … Пока не услышали в тишине тонкий нежный голосок маленькой девочки, сидевшей в углу общей скамьи, выглядывавшей за спинами своих родителей.
– Дедушка, Божий человек, а почто мы теперича на пост Великий молоко вкушать стали? Боженька ведь запрет на это дал.
– Отец афанасий, Вы пигалицу простите ужо… Мала она пока, а все туда же… В дела Божьи лезет, – пробормотал, как-то потупясь, Селиван.
– , а на то и есть промысел Божий, чтоб чрез уста малого дитяти сам Господь и учит нас уму да разуму, – надрывным голосом отвечал ему афанасий, – И отвечу я ей на это… Молоко да сметана не есть грех человеческий. Молоко нам сам Господь велел вкушать, потому, как оное есть первое что надобно для человека с рождения, это пища наша. В чем же грех этот? Грех людской не в молоке, а в помыслах, в страстях, в разуме блудном … Те запреты нам главными в церквах писаны. Не молоко грех, а дела человечи, а для нас Слово Божье и есть молоко небесное.
Снова замолчал старик и тихо стало.
– Ну ладно люди добрые устали мы с дороги, – произнес Федор.
Вскоре в избе тихо совсем стало. Все ушли ко сну. Не спалось только маленькой Марьи. Думала она обо всем и все больше о Боженьке. И представлялся он ей красивым дедушкой с такими же глазами как у ее отца и доброй, предоброй улыбкой, а потом все уснули …
Только слышно было как в сенях, где-то в углу, кто-то грыз что-то в подполе, во дворе тихо скулила собака, а легкий шелест ветра тихим шепотом ложился на кроны ближайших деревьев.
Ночь легла на то место черным покровом тайны, которую принесли с собой эти два старых странника, и с ней все началось.
Странники ушли на следующий день, оставив в подарок Селивану большую старинную Божью книгу. Книгу странник Федор достал из мешка и положив на дубовый стол молвил,
– Батюшка … Матушка, – обращался он к Селивану и Глафире, – а это примите от нас как дар Божий. Сия книга о хождениях Спаса Нашего Господа Иисуса Христа и то что завещал он нам с апостолами своими. Ты же Селиван грамоте учен я знаю … Вот и читай книгу эту Божью своим близким. В ней все дюже праведно написано … В ней ответы на все вопросы. И почему Господь заповедовал нам не в храмах молиться, а мы нонче опять пошли той же дорогой и оттого страдания принимаем. Кто-то в поте лица пищу свою добывает, а кто-то сидит на злате да чахнет. Прими от нас дар этот и готовьтесь к тому, что скоро покинете места эти. Туда куда Вас и многих других судьба кинет новый дом искать… Христос Мессия придет, и потому не противьтесь Вы этому. Значит, так должно и быть. Тяжкие испытания примите, но все ради Господа нашего … За него и Голгофа млеком для нас покажется. Все это отец Афанасий в своих видениях видел. На то он Господом самим и отмечен, – сказал все это Федор.
Поклонились они со старцем Афанасием всем домочадцем и тихой поступью покинули дом Селивана.
Вечером того же дня свежее молоко в жбане на глазах у Марьюшки окрасилось в красный цвет крови.
Медленно, с самого края молочной поверхности сначала появились красные крупинки, а потом, увеличиваясь на глазах Марьи, они превратились в одно сплошное красное месиво, от вида которого у Марьи потемнело в глазах. В жбане теперь была одна лишь кровь …
Закрыв глаза от ужаса, девочка бросились к своей маме.
– Мама это кровь! Кровушка эта! Кровушка! – закричала она, но Глафира лишь обняла свою дочь, а на жбан с молоком, превратившейся в кровь посмотрела так, будто увидела она саму смерть, которая пришла за всеми.
А Марьюшка вдруг глаза закатила так странно, что они словно смотреть куда-то вверх стали, а сама белая стала как полотно и задрожала вся. Глафира же, мать ее тоже, побледнела вся, кинулась было к дочке, обняв ее …
– Что ты доченька родненькая? Что с тобой дитя мое?
– Мама нам здесь немного жить осталось. Все верно дедушка божий человек сказывал. Лет еще с пяток или чуть боле, а потом все пойдем далече, очень и очень далече, той земли не видать. Там и останемся … Много помрет народу, а кто туда дойдет, и те тоже долго еще страдать будут. Но мы дойдем … Мы дойдем …
– Ты что говоришь такое? Что говоришь то … – говорила мать, прижимая дитя к себе.
И с того самого дня стала Марьюшка видеть многое… то что не всем смертным дано было видеть. Человек помереть должен, а Марьюшка уже за месяц знала. И у кого, отчего корова захворала, и из-за чего и человек той или иной хворью тоже заболел и как лечить оною. И видела она многое еще и ангелов божьих и силу даже нечистую и душ с того света и знала она тайны людские и помыслы.
Так как не хоронились родители Марьи скрыть то, что дочери их дано свыше стало, но вскоре люди прознали это и стали многие к ней ходить, к ребенку еще за советом, и свои молокане, и даже православные, и даже господа дворяне из города.
Но чем старше становилась Марья тем все в себе замыкалась и не с охотой бралась за дела такие, потому как болела сильно потом. Припадки те только хуже ей делали.
Но природа свое брала … как и все в этом мире. И все ее звали уже не иначе как Марья искусница.
Кровь
Никто никогда бы не смог раскрыть замысел тех сил, которые незримо следят за каждым шагом рода людского. Начиная с тех самых дней, когда человек еще в утробе матери, и когда впервые открывает глаза, появляясь на этот свет, и тогда, когда делает свои первые еще слабые шажки, и смотрит на этот мир удивленными глазами, где все ему кажется чем-то удивительным и даже немного возможно и пугающим.
И где та грань, что отделяет наш мир от мира вымышленного?… Там, где явь и сон соединяются в один узел, и порой никто не знает, где ему суждено пребывать…, в своем собственном сне или в мире грез и иллюзий…, где человек может быть всего лишь временной тенью своего собственного сознания.
Перед нами стоит целый пласт времени перед теми событиями, которые теперь последуют в моей истории.
День выдался слегка пасмурным, когда Надюша пришла со школы домой. Но дома опять было шаром покати, а вот во дворе ее дома уже накрывала на стол ее бабка, которую соседи все звали злой молоканкой бабкой Иванихой за грубый нрав, да еще были двое сыновей бабки Иванихи, родных дядек маленькой Надюши, с женами своими.
Надюша, которую все домашние ласково звали Лялей, стала подсматривать за ними через дверной проем.
Все дело в том, что отца девочки совсем недавно посадили на два года… Работал он на мясокомбинате водителем грузовой машины и случайно сбил мальчика. Несильно, правда…, но этого было достаточно, чтобы его посадили в тюрьму. Мать Наденьки теперь носила еду в больницу этому мальчику, всю еду что успела сготовить… И какой день, когда Надюша приходила из дома ей не перепадало и корки хлеба. Откуда и ей-то было взяться… Мать Надюши, которую все звали Нюрой, была обычной простой уборщицей в Институте переливания крови, который был совсем рядом с домом. Старшая сестра Наденьки Валентина была еще студенткой, а единственный кормилец сидел в тюрьме.
– Что интересно они будут кушать? – подумала Надюша, наблюдая за ними и чувствуя, что во рту у ней уже набежала слюна.
Запах незримо подобрался к дверному проему.
– Курник, – подумала она снова, сглотнув слюну. Они же вчера петуха зарезали, нашего Темушку.
В это время взрослые уже садились за стол, в центре которого стоял глиняный горшок, от которого исходил вкусный превкусный запах. Был разложен и порезан каравай, свежего железнодорожного серого хлеба из местной лавки, большая миска с квашеной капустой, солеными огурцами и вареной картошкой.
Надюша почувствовала, что у ней от голода уже кружится голова. Она ушла в школу голодной и пришла голодной.
Дворик, в котором был накрыт стол, утопал в зелени, и, хотя было пасмурно, но душно, как и должно было быть в середине жаркого бакинского лета, зелень же давала прохладу.
Надюша знала, что ей не дадут есть. Бабка была не доброй к ней, а даже грубой порой. Надюша мало что понимала в том, почему ее бабку называли молоканкой, но она точно была уверена в том, что именно потому, как ее бабка была молоканкой, она и была злой. То есть эта черта ее характера была связана с тем, что ее звали молоканкой.
– А может все-таки дадут мне покушать? – подумала она и робко бочком подошла к столу, встав у самого края.
Вкусный запах, исходящий из горшка, казалось, готов был сбить ее с ног, а курник в это время стали разливать по тарелкам, и при этом, никто будто совсем и не видел маленькой девочки, которая стояла рядом со слезами на глазах и с коликами в своем животике от голода.
Бабкин петух был жирным, домашним, откормленным на зерне. Надюша помнила его. Он был с ярким красно-оранжевым опереньем, и бабка почему-то звала его Темушкой. Помимо него у бабки было еще два петуха и десятка три кур-несушек и, видно, Темушка стар стал, и пришло его время быть сваренным в супе, и поданным на стол бабкиной родни.
А родня при этом, громко чавкая, стала поглощать горячее варево с большими кусками вареного Темушки.
Надюша почувствовала, как уже теряет сознание от голода и думала про себя при этом, Хоть хлебушек, хоть корочку хлебушка дайте мне… Прошу Вас, – стояла она, и слезы текли по ее лицу.
Но взрослые, будто продолжали не видеть ее совсем, словно невидимая пелена закрывала им глаза.
Правда она видела, как на нее коситься бабка, злым и недобрым взглядом, взглядом старой сектантки, как называл ее один из ее постояльцев, которому она еще и умудрялось сдавать комнату в своем дворе.
– Хватит тут стоять! – услышала в это время Надюша голос ее старшей сестры за спиной и почувствовала, как та потянула ее за школьную кофту, – Пойдем в дом.
Валентина чуть не силком затащив в дом младшую сестру, сунула ей в руки большой бутерброд. Это был ломоть хлеба с колбасой, паек студента выданный в институте. Старшая сестра, зная положение в доме, какой день приносила своей младшенькой паек.
– А ты? – робко спросила ее Надюша.
– Давай ешь! – гаркнула на нее сестра, – Ты же знаешь их. Какие они. Думала накормят? Хммм… Бабка тоже. – Валентина в отличие от младшей сестры была более жесткой, но в открытую с родней все равно не связывалась, – Мамка где? Все там же? Да уж… Когда же это все закончится? Ладно, пошли чай пить, а этих … Ну их!
Шел июнь 1941 го года.
Вечером того же дня у Нюры, молоко, которое она принесла домой, окрасилось в красный цвет. Стало красным как кровь.
Надюше же во сне снилась девочка, давно уже… такая же как и она, с белыми локонами и большими зелеными глазами на светлом личике.
Но Надюша никогда и не кому не рассказывала про то, что давно видела в своих снах Марьюшку. Она не знала и не понимала того, почему она видит ее, но чувствовала, что Марьюшка неразрывно связана с ней каким-то особым креплением, узлом, и даже самой жизнью.
Но только лишь с того дня, как у Нюры молоко превратилось в кровь, Надюша перестала видеть Марьюшку просто, обыденно что ли… как было раньше… Все поменялось отныне… и стала видеть Наденька Марьюшку только перед чем-то важным, чем то особенным … событием меняющем судьбу.
И проснувшись утром, Надюша сказала маме своей, тихо так, словно сама боялась сильно того, что поведала ей Марья во сне:
– Мама, а скоро война страшная будет.
– Ты что, доча? Какая война? Ты что? Небось сон плохой приснился … – удивилась еще Нюра.
– Нет, будет мама, будет.
На следующий день по радио объявили, что началась война.
Мамка причитала все утро. Нюра знала, что ее мужа скоро должны выпустить, и возможно его сразу и заберут на фронт.
– Это Господь Бог шлет нам знак. Вот и война пришла, будь она неладна, а ведь Петра то должны отпустить скоро, и тут на те война… Заберут, теперича, папку Вашего. Заберут ведь, – причитала Нюра, перед сидевшими перед ней дочками.
С войной пришел и голод, хотя в маленьком домике семьи Ивановых итак было голодно.
А папку скоро освободили… Мать Петра, бабка Иваниха, встретила сына недобрым взглядом и стоя на пороге их общего дворика, только спросила у нелюбимого сына:
– Говорила я тэбе, что новая семья твоя щастья не даст, а ты как был дурак так им и остался. Вся семья у них малахольная, и ты стал такой же. Тьфу, – сплюнула бабка.
Ничего не ответил ей Петр, а только прошел к себе в дом.
Бабку Иваниху боялись все… И муж ее, старый Федор, и сыновья, и невестки, и внуки, и соседи. Невысокого роста, коренастая с широким и немного рябым лицом бабка Иваниха обычно ходила в старомодном сарафане до пят. Волосы у ней всегда как-то сбившись в клоки топорщились в стороны, а взгляд был колючим и жестким.
Говорили, что еще до революции ее семья была одной из самых богатых семей молокан в большом селе недалеко от Баку. И еще долго Ивановы гремели как богачи. Их не затронула Гражданская война, которая прогремела тогда по всей России, и не моры, волна за волной накатывавшие на изможденную страну. Многочисленное стадо овец, которых держала семья Ивановых, а также и торговые ряды на молоканском рынке в Баку работали на Ивановых. Были и батраки, из своих же обедневших молокан. Все это было до тех пор, пока не подошло время колхозов.
Многочисленные стада овец и коров богатых молокан перешли в общее пользование, а бывшие батраки стали теперь членами правления колхоза. Торговые ряды у Ивановых тоже забрали.
Поэтому семья бабки Иванихи была одной из самых старых в этих местах. Окраиной того старого Баку был в те времена поселок, в котором проживали в основном те из русских молокан, которые еще при царском режиме начали уезжать из деревень и селиться в городе. Позже стали селиться и русские, которые бежали от красного террора бурей прошедшего по центральным областям нового Советского государства, а позже уже и армяне, и лезгины, и всякие другие народы.
Пришедшая вместе с Советской властью нужда заставила их сдавать комнаты всем подряд, а особенно местным азербайджанским татарам, приезжавшим из аулов торговать на местном рынке.
В конце двадцатых годов из разоренной Гражданской войной страны, приехала семья Черниковых.
Глава семьи Черниковых, Василий Антипыч, выглядел благочинно и был очень благородным человеком. Он все делал неторопливо, говорил тихо. Ходил всегда в добротном ухоженном сюртуке дореволюционного покроя, выдававшем в нем бывшего интеллигента средней руки; аккуратная борода и всегда отутюженный костюм выделял его очень сильно от других русских бежавших со средней России.
Благоверная супруга его тоже бросалась в глаза своей статностью и благородством.
Полина Владиславская была родом из обедневшей польской шляхты и поговаривали, что даже унаследовала титул графини, хотя Черниковы тщательно это скрывали.
Когда то в молодости Василий Антипыч ездил в Варшаву по каким-то рабочим делам, откуда и привез себе молодую жену.
Люди говоривали, что приехавшая семья Черниковых до революции имела где-то под Воронежом и большое имение, и свои собственные поля пшеницы, а также мельницы, лавки.
Пришедшая в страну Советская власть отняла у них все что было, но следуя просьбам крестьян, которым они в свое время сильно помогали, переселила их в бывший флигель, отдав их усадьбу под Детский приют.
Гражданская война ломала судьбы, крошила в пыль многих людей и их семьи, но Черниковы смогли устоять. Правда все любила вспоминать их дочь Анна, когда стала взрослой, как едут белые, а потом красные, а потом снова белые, а потом снова красные.
После Гражданской войны, начавшаяся было НЭП, дала возможность многим людям начать все сначала. Не обошла она и семью Черниковых. Снова завели свое крестьянское хозяйство, только теперь уже без наемных рабочих и гораздо меньшее по размерам, что было когда-то. Работали всей семьей, а это как, никак тринадцать детей. Немного смогли встать на ноги, но ненадолго. Вскоре и НЭПУ пришел конец.
Но глава семьи не только занимался своим крестьянским хозяйством, а они всегда были и сильно верующими людьми с христианской душой.
А тут Советская власть в лице пришедших колхозов сплошь и везде состояла из вчерашних бедняков, многих из которых знали больше как местных пьяниц и, как говорил про них народ при старом царском режиме, называя лишь одним словом – дармоеды.
Но и среди даже и этих самых дармоедов нашлись те, кто помнили добро семьи Черниковых, называя их больше богомольцами, оттого, что вели они тихую, благочинную жизнь с молитвами и крестьянскими буднями.
И вот снова у Черниковых отбирают последнее, изымают в пользу Советской власти, а потом только и успел им кто-то сообщить из добрых крестьян, что в списке на Сибирь они стоят первыми.








