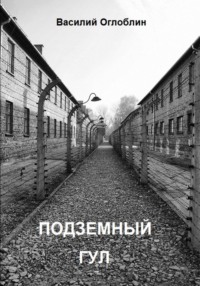Полная версия
Цена любви (Рассказы)
– До дому сегодня, Зинуха, завтра на завтрак не жди.
– Балуешь. На Уренгой за эти дни не будет ни вертолета, ни машин.
Как же ты?
– На попутках, Зиночка, или пешечком.
– Не дури, парень. Триста-то двадцать километров пешочком?
– Подберет по пути кто-нибудь, а нет, так и на своих двоих добежим, чего нам, молодым, неженатым.
– Все вы только за порог и уже холостяки. По жинке, небось, до смерть соскучился?
– Холостяк я, Зиночка. А по женщине, верно, соскучился. Холодно тут шибко, а погреть некому.
– Ой, какой зябкий.
– А что, и в самом деле замерз.
– Много вас тут, мерзнувших, всех не обогреешь.
Зинуха круто повернулась к плите, гордо понесла свою красивую голову с пышной прической. И как она эти прически тут делает – уму непостижимо. Сергей не уходил. Ждал, пока снова вернется.
– Чего тебе еще, Сереженька?
– Да чайку бы еще кружечку.
– На, бери.
Сдобная грудь ее поднялась высоко и опустилась. Зинуха вздохнула.
– Шутишь все. А ты не шути…
И виляя широкими бедрами и красиво изгибаясь тонкой талией, Зина несла уже завтрак следующему.
"Красивая бабенка, – подумал Сергей, провожая повариху глазами, – огонь девка и неприступная как тот утес на Волге, о котором в русской песне поется. Вот эта была бы женой верной до гробовой доски…"
Про Зинухину "историю" Сергей знал. Сама как-то вывернула душу наизнанку и все рассказала. Выговорилась. Человеку иногда бывает просто необходимо, просто невтерпеж перед кем-то выговориться, снять камень с души. От этого и мир окружающий становится светлее, и жить становится легче. Зина – москвичка. Ей двадцать пять лет. На своих именинах, на своем-то двадцатипятилетии, Зина и рассказала Сергею все. Почему именно ему кто знает. Ей, глупенькой показалось, что двадцать пять, это уже так много, так много, что, кажется, и жизнь уже вся прошла. Они долго тогда сидели, уединившись, в уголочке, у печки, и Зина рассказывала, частенько вытирая платочком глаза. А за окнами ее коттеджика бесилась свирепая метель, коттеджик покачивался и подрагивал, и слышно было как ржаво скрипели широкие полозья, на которых он был установлен, скользя то взад, то вперед. Приехала Зина сюда, в заполярную тундру, не за романтикой, не из патриотизма обживать для России новые дикие края, и уж конечно не за длинными рублями, хотя и получала она здесь, работая поварихой, официанткой и кухонной рабочей в одном лице действительно прилично: полтысячи в месяц. Чистыми. К тому же в тепле и сыта. Не за этим приехала сюда москвичка Зина. Зинуху прибило сюда волной бурное житейское море, как прибивает к необитаемому островку сломленный бурей камыш или тростник. Пять лет она была счастливой, "самой счастливой женщиной в мире", по ее словам. Безумно любила мужа, молодого и как все утверждали, "подающего большие надежды ученого" кандидата технических наук, сама работала после окончания университета младшим научным сотрудником в том же научно-исследовательском институте, где и ее мук Евгений. Рос сынишка. Будущее рисовалось безоблачным. У них было уже все: небольшая, но уютная квартира, приобрели приличную мебель, создали домашний комфорт. В вещизм Зина никогда не ударялась, она была далека от этого, жили скромненько, но дружно и мило. Никаким ученым ее Евгений конечно не был. Уж она-то, его жена, знала лучше других, что никаких многообещающих надежд возлагать на ее Женечку было не только нельзя, но это было просто глупо. Кроме молодеческого форса и высокомерия у Евгения ничего не было. К своим тридцати семи годам он не только не сделал никакого научного открытия или хотя бы небольшого изобретения, но никогда их не сделает. Он был просто глуп для этого. При солидной протекции всякими правдами и неправдами ему помогли защитить диссертацию (человеку, мол, уже под сорок подкатывает, пора), вытащили за уши, сделали кандидатом наук. Именно сделали. и на этом все завершилось. Теперь он спокойно сидит в научно-исследовательском институте, протирает штаны за штанами, благо заграничные джинсы, до которых Женечка был большой охотник, протираются долго, шелестит какими-то бумажками, выработал важную походку, научился гордо и по-ученому носить лысую голову. Будущее обеспечено. Знала Зина все это и все же любила Евгения. Ведь бесталанных-то, безвольных, заблудившихся в жизни, не нашедших в ней ни в чем для себя достойного применения, любят еще сильнее, к простой земной женской любви здесь добавляется еще и острая жалость, сострадание, ведь любит же мать больше и нежнее, глубже и жертвеннее чем других детей сына слабого, сына урода. Таким любила она своего Евгения, Женю, Женечку. Но в один осенний дождливый день счастье это рухнуло, развалилось как карточный домик. Её ученый влюбился в другую, молоденькую, смазливую. Объяснения. Разрыв. Развод. Суд, по ее глубокому убеждению, тоже не без нажима влиятельных лиц, не без звонков поступил несправедливо и жестоко: присудил сына Вову оставить с отцом, мотивируя это тем, что отец более обеспеченный человек и тем, что глупый еще ребенок, приласканный и подкупленный, сказал на суде, что он хочет быт с милым папочкой. Знала Зина, что и здесь не обошлось без солидной руки, но поделать ничего не могла. Доказать что-либо было трудно, да и вся жизнь у нас тогда была построена на праве сильной руки. Она в тот же день, бросив все, собрала в чемоданчик кое-какие необходимые на первое время вещички, занесла муку в институт ключи от квартиры и, не сказав ему ни слова, села в такси и поехала в аэропорт. Ближайший самолет летел на Тюмень. Тюмень так Темень. Купила билет и улетела. В Тюмени пожила два дня в гостинице. Побродила по незнакомому северному городу. Позаглядывала на объявления. Зашла в несколько трестов и управлений. Предложили Сургут. Сургут так Сургут. Какая разница. В Сургуте места по специальности не оказалось. Остановилась на перекрестке. Задумалась. Народ в Сибири живет добрый, сердобольный. Один случайный человек, заметив ее растерянность, подошел, поговорил, посоветовал махнуть в Ямбург, там, мол, дела непочатый край, только обживается. Ямбург так Ямбург. Незнакомое название очень понравилось: красивое Ямбург, чуть- чуть не Петербург. Выхлопотала пропуск: туда, в ту дикую глухомань еще и не всех пускают. Распросила как добраться. Села в вертолет, облегченно вздохнула, начинается новая необычная жизнь. И вот стала из младшего научного сотрудника старшей поварихой Зинухой в самом отдаленном заполярном мостоотряде. Почему старшей – не знала, ведь была одна и младших поварих не было. Ребята все как на подбор, все славные такие, сильные, на севере жиденькие не приживаются. "Мой Женечка умер бы от страха в первый же день" – так закончила Зина свой рассказ, насмеявшись и наплакавшись досыта.
Вот такая у Зинухи история. В жизни часто так бывает: безоблачная счастливая полоса вдруг сменится полосой глубокой и сильной боли, равнодушия ко всему, обиды, мрачной опустошенности и безысходного горя, а душа человеческая хрупка, легко ранима, и трудно, ох, как трудно залечивает жизнь эти, один раз нанесенные недобрым, злым человеком раны. Вот и приехала лечить свою тоску и свою боль москвичка Зина в далекий Ямбург. Вместо оперы и балетов в Большом театре слушает по ночам волчий вой, вместо Арбата – густо натыканные как попало неуклюжие "бочки", землянки и сараюхи, вместо приборов и пробирок – черпак с длинной ручкой. Даже радио и того нет. Лечит ли Зина свои раны? Кто знает? Чужая душа потёмки. Только на дверях небольшого коттеджика на широких санных полозьях, где она живет, висит грозное объявление, написанное на куске ватмана черным фламастером: Вход категорически запрещен!!!" Так и написано с тремя восклицательными знаками. А вверху какой-то шутник нарисовал углем череп с перечеркнувшими его двумя ломаными молниями. Мол, опасно для жизни. И кто ни пытался подбивать к Зинухе "клинья" даже сам бригадир Пал Палыч пробовал, все получали решительный отпор, всем от ворот поворот. Огонь баба и неприступна как утес. Недосягаема. В этом скоро все убедились и оставили гордячку и недотрогу в покое. На чужой каравай рот не разевай. Ко всем Зинуха одинаково добра, нежна и ласкова, всем мило улыбается, и все ей словно родные братья. Всех зовет то Сереженькой, то Пашенькой, то Васенькой, то Коленькой. Подразнит походочкой с ума сводящей бравых и молодых монтажников, улыбнется каждому своим неотразимо притягательным взглядом, сверкнет жарким блеском горячих очей, все обещающих ни никому ничего не дающих, накормит всех досыта вкусной и жирной пищей. И бывайте здоровы, орлы. А пищу, надо отдать Зинухе должное, научный сотрудник готовить умеет не хуже шеф-повара в столичном ресторане. Вздохнут ребята тяжко, обругают про себя ослом вислоухим и размазней неизвестного им Женечку: " Такую завидную бабу, такую красавицу на кого-то променять…" да и разойдутся по своим "бочкам" давить ухо до следующей смены…
А когда Сергей, позавтракав, принес Зинухе пустые миски и кружки и поблагодарив ее, собрался уходить, она посмотрела на него долгим встревоженным взглядом и спросила серьезно, без обычной своей улыбочки.
– Ты, Сереженька, вшутку сказал это или всерьез?
– Всерьез, Зиночка, смену отработаю и в поход.
– Ой, гляди, парень, Зинухе опять станет больно, если ты не вернешься.
– Это что, Зиночка, правда?
– Правда, Сережа.
И глаза ее, всегда озорные и веселые подернулись вдруг печалью, стали больными и затуманенными, мутными даже какими-то, точно такими, какие у нее были тогда, когда она рассказывала ему о своей не сложившейся
жизни.
– Ты это помни, Сережа…
Двенадцатичасовую смену на строительстве двухпролетного моста через какую-то безымянную и довольно широкую речку, напомнившую ему Тыдыотту. где он начинал свою работу в мостоотряде, Сергей проработал с огоньком и задором. Кувалда плясала в его руках, больших и сильных. Только против обыкновения он чаще посматривал на часы. Нетерпение его росло. Окончив смену, он наскоро поужинал. Народу в столовой было много, и он ни словом, ни взглядом е обменялся с Зинухой. Только уходя, с порога приветливо помахал ей рукой. Она кивком головы поманила его к себе, но он не вернулся, а пошел искать бригадира Пал Палыча, чтобы доложить ему о своем уходе. Было девять часов девять вечера, и он спешил, надеясь за ночь любыми путями добраться до Уренгоя, а там уже чем бог пошлет до Сургута, от него поезда ходят. Он не терял надежды на то, что обязательно попадется попутная малина, ведь по всей тундре разбросаны стоянки газовиков и нефтяников.
Бригадира Пал Палыча Сергей нашел в коттедже механика. В небольшой комнатенке было жарко натоплено не то, что у них в "бочке", где по ночам температура опускается до нуля. Бригадир сидел в одной рубахе, широко распахнув ворот и выставив напоказ впалую, сильно волосатую грудь. На столе стояла высокая бутылка коньяка, две наполовину выпитые рюмки и большая круглая банка с китайской свиной тушенкой. Стискивая ладонями виски своей совершенно голой как арбуз рябой головы, Пал Палыч склонился за столом. Было смешно смотреть на него сбоку: из-за круглых как мячики щек совершенно не виден был его нос, маленький, приплюснутый. Пал Палыч играл с механиком в шахматы, пропуская время от времени по маленькой. Кивнув быстрый взгляд на вошедшего, Пал Палыч спросил строго.
– Тебе чего, Булатов?
– Потягиваете по маленькой? – усмехнулся Сергей. – А ведь у нас сухой закон. Нарушение.
– Не твое дело. Чего тебе надо, спрашиваю?
– Пал Палыч, я сейчас отбываю домой. У меня сорок пять суток отгулов.
– Знаю.
– Ну так вот, я сейчас еду домой, в отгулы.
– Что? – не отрываясь от шахматной доски, переспросил бригадир.
– Двадцать пятого декабря, в двадцать один час монтажник вверенного вам мостоотряда Сергей Булатов уезжает домой. Теперь ясно?
– На чем?
– На попутке. На своих двоих.
– Силен.
– Какой есть. На силу, вроде, не обижаюсь.
Пал Палыч оторвался от шахмат, долго и мрачно, с нескрываемым любопытством, словно видел Сергея в первый раз, посмотрел на него, вновь устремил взгляд на фигуры. Долго молчал. Сергей переминался с ноги на ногу, в душе закипало зло. Но он сдерживал себя, грубить Пал Палычу было сейчас ни к чему. Пал Палыч допил рюмку, зацепил вилкой и отправил в рот большой кусок тушенки. Пережевывая, выдавил из себя глухо.
– Не возражаю. Только вот возьми бумагу и напиши мне заявление.
– О чем заявление? Я же в отгулы. У нас вахтовый метод и не к чему разводить писанину.
– Не рассуждай. Пиши о том, что уходишь. В отгулы. Я из-за тебя в тюрягу садиться не собираюсь. Пиши: такого-то числа, в столько-то часов, я, такой-то отбываю по собственному желанию домой. Ты откуда?
– Из Челябинска.
– Вот и пиши: домой, в Челябинск, в отгулы. Сколько на градуснике?
– Минус пятьдесят два.
– Во, во, пиши: на градуснике минус пятьдесят два.
– А это еще для чего?
– Пили, раз говорят.
– А вы, Пал Палыч, не того? Не под градусом? У вас не пятьдесят?
– Пока нет. Пиши, что говорят. Иначе – ни шагу.
– Да ведь я, Пал Палыч, у вас не милости прошу и не зэк я, не под конвоем, я только ставлю в известность. Как положено по закону.
– Пиши!
Пал Палыч снова до краев наполнил пузатые рюмки. Сергей приткнулся на углу тумбочки и написал заявление, поругиваясь про себя. Пал Палыч внимательно прочитал, закал листок бумаги под ладонью, долго думал, морща морщинистый и без того лоб, сделал ход.
– Мат, Петр Иванович.
– Что? – ничего не поняв, переспросил Сергей.
– Мат. Говорю не тебе, а Петру Ивановичу. Иди. Да назад приходи. Через сколько дней будешь?
– Новый год отпраздную дома, с семьей, и вернусь. Числа десятого января буду на месте.
– Лады. Можешь быть свободным.
– Еще хочу, Пал Палыч, напомнить вам, что вся бригада весь месяц до сегодняшнего дня работала ежедневно по шестнадцать часов ввиду срочности сдачи объекта. Не забудьте в нарядах правильно отразить, а то…
– Что "то"? – оборвал его Пал Палыч зло.
– А то, что вы частенько забываете и в нарядах по десять часов пишете,
а этого вам никто не позволял и не позволит.
– Это не твоя забота. На это есть я.
– Я только напомнил, чтобы не забыли, а то…
– Что, Булатов то?
– А то, что Пал Палычу будет объявлена решительная борьба. Всей бригадой. Вот это и то. Нашим горбом зарабатывать себе славу мы больше, Пал Палыч, не позволим. И кульничать – тоже…
– Ну, валяй, валяй. Грамотные все стали…
Пал Палыч зло налил себе рюмку и сразмаху плеснул ее в рот. А когда Сергей выходил, то услышал сказанные Пал Палычем вроде бы тихо, но усльшанные им слова.
– Отчаянные эти ребята Сергей и Серёга. Работают как звери. Все горит в руках. Но и пальца в рот не клади, откусят, гады. Ты бы вот, Петр Иванович, решился в такой дикий мороз пройтись по зимнику? Пешочком? Один? А? Я уверен, что ни одной попутки от Уренгоя не будет. Куда к черту, через час шестьдесят будет с лисьим хвостиком, а он поперся…
Ответа Сергей не слышал. Он зло захлопнул тяжелую дверь, толсто обитую войлоком и тепловатой.
"Ребята-то в бригаде работают точно как звери, тридцать мостов за год построили, – подумал Сергей зло, это ты, Пал Палыч, верно сказал, вот только ты неизвестно почему обращаешься с ними тоже по-зверски. Славу себе добываешь, ордена хватаешь. Ребята для тебя не люди, а рабсила. Ничего, дойдет очередь и до тебя…"
И пока торопливо шел к своей "бочке" думал: "Свил ты, Пал Палыч, тут в заполярье, себе теплое гнездышко, высиживаешь в нем за бутылочкой коньяку и банкой китайской тушенки золотые яички тысячами, путем жульничества увеличиваешь производительность труда, снижаешь себестоимость строительства, в большие люди лезешь, думаешь, что далеко забрался, не достанут. Достанем. Не таким королям головы секут, а уж ты-то, тьфу, плюнуть и растереть…
С этими мыслями Сергей зашел в свою "бочку". Выпил кружку, услужливо приготовленного Серёгой крепкого горячего чая, обнялся и расцеловался с другом, натянул на плечи лямки рюкзака, подпрыгнул два раза, чтобы рюкзак удобно и ловко умостился на его широченной спине и пошел на зимник.
Хотел зайти в коттеджик к Зинухе, попрощаться, но раздумал, все в их поселочке на виду, пойдут сплетни, суды и пересуды. Сначала идти было легко и тепло, даже жарко. Сергей расстегнул и распахнул полы полушубка. Но скоро мороз стал добираться и до рук и до ног. Сергей туго перепоясался ремнем, застегнул все пуговицы, опустил уши шапки, туго завязал тесемки и пошел скорым размерянным солдатским шагом.
И вот уже почти сутки идет. И ни одной попутки. Ни одной живой души вокруг. Только мороз и бескрайняя чуть белесоватая тундра. Тундра и мороз.
В дальней дороге много думается и многое вспоминается. Думал и Сергей. Он светло и чисто думал о гордой и неприступной красавице Зинухе, потерпевшей в своей, совсем еще молодой жизни первое кораблекрушение. Думал, вспоминал ее улыбки, ее затуманенные глаза и верил, что Зина еще воскреснет Зина еще найдет свое большое земное счастье. У Зины душа большая и светлая, и сердце у нее нежное, распахнутое людям, доброе и любвеобильное. И вся она чистая как родничок, бьющий из-под земли в лесном ключе. Жизнь не может, не имеет права обделять счастьем таких людей как Зина, жизнь должна и обязана оберегать таких людей и приносить им только добро и радость. Нет, нет, Зинуха, это все временно, жизнь твоя вся еще впереди, и счастье твое впереди. Жди терпеливо и дождешься. Как это сказано у Сираха? "Все, что приключается тебе, принимай охотно и в превратностях твоего уничижения будь долготерпелив". Терпи, Зина.
Думал он и о Пал Палыче. Жалкое ничтожество. Заевшийся человечек,
у которого давно нет ни совести, ни чести, ни простой человеческом порядочности. Весь он – ложь. Весь подлость. Не зря же он никогда не посмотрит прямо в глаза, вечно они у него бегают с предмета на предмет, глаза нечистой души. Этот не глуп, как Зинухин кандидат. Этот – умен. Дело свое хорошо знает. Но хитер и лицемерен, ловок и двуличен. И живет он по принципу: не делай никогда для другого то, что можешь сделать для себя. А принцип этот ловко вписывается в устои нашем сегодняшней жизни и потому Пал Палычи процветают. Вот так и живет на земле человек, преуспевает: рыло его в тресте на доске почета висит, правда с выцарапанными глазами, начальство о нем высокого мнения, в пример ставят, депутатом областного Совета избрали, орден недавно получил. Почет и слава. Я бы на его месте презирал бы себя, ненавидел лото, а он ходит самодовольный, важный, как индюк шаперится, только в глаза людям не смотрит…
А мороз все крепчал. Сергей весь закуржевел. Он несколько раз пытался дыханием оттаять и выцарапать лед из усов и бороды, но мгновенно мерзли руки и он бросал это бесполезное занятие. По времени это был вечер, закат солнца. А на закате морозы всегда крепчают. Встряхнулся, поёжился и ускорил шаг. И опять мысли вернулись к Пал Палычу: «И откуда они такие в нашей жизни берутся? Кто их пестует? И кто их воспитал, сделал такими? И почему все молчат? Ведь вся бригада знает о его проделках. Знает и молчит, не мешает кулику кульничать. Приучены наши люди молчать, не смеют правду в глаза сказать. А почему? А вот в этом-то "почему?" нелегко разобраться, мозги сломаешь. Скажи правду и загремишь, войдешь в немилость, в клеветники, в противники. А каждому жить хочется и хлеб жевать. В загоне у нас честные люди, зато простор подхалимам, карьеристам, приспособленцам. И сам Пал Палыч, ведь был и он, вероятно, парень как парень в свои двадцать, двадцать пять лет. Был таким же работягой, как и мы с Серегой. Почему же он в сорок лет, выбившись в начальство и положив к карман красную книжечку, стал барином, высокомерным, чопорным и нечестным. Кто сделал его дельцом и подлецом? Ведь он бесплоден духовно, он стал каким-то заведенным кем-то автоматом, дающим план, понижение, повышение. И все автоматически, по заданному режиму, без участия чувства и пуши. Душа у человека умерла, сгнила…»
Сергей почувствовал, как у него сильно начали мерзнуть ноги выше колен. Уже не мерзнут, а начинают отмерзать. Ледяной ветер задувал под полушубок и морозил тело. Он вспомнил о своих шерстяных портянках, взятых про запас. Он расстегнул боковой карман рокзака и вытянул их. Лихорадочно работая, через каждые две-три секунды отогревая руки, он плотно обмотал портянками ноги выше колен, туго перевязал тесемками, еще потуже перепоясался ремнем. Ногам стало теплее. Но пока обвязывал ноги то чуть не отморозил руки. Теперь он быстрыми и энергичными сжимательными движениями грел их в меховых рукавицах.
– Ничего, не пропадем, утешал он себя, идти надо быстрее, на ходу не замерзну.
И вспомнился ему один, не очень давний случай. До мостоотряда он шесть лет работал в мурманском тралфлоте старшим матросом. Избороздил на разных сейнерах и траулерах все земные моря и океаны. Последний год он ходил на небольшом, но шустром рыболовецком траулере "Ковдор". Славная была посудина. Сколько ее борта видывали штормов и в Баренцевом море, и в Северной Атлантике! Однажды они вели промысел в окном океане, в районе Южной Георгии. На всю жизнь запомнил он тот промысел. С трюмами, набитыми отборнейшей рыбой, они шли в порт Грютвикен. Южный океан почти всегда штормит. Но тот шторм был особенным, бешенным каким-то. Гигантской силы и чудовищной высоты водяные валы с грохотом обрушивались на их небольшое суденышко. "Ковдор" метался словно скорлупка от ореха среди исполинских водяных валов, казалось, что вот-вот рухнет на него огромная гора взбесившейся и грохочущей воды и заплеснет, пустит ко дну. Но "Ковдор" каким-то чудом снова выныривал и вновь яростно, и бесстрашно встречал новый вал. Во время наката на судно одного из таких валов Сергея, выскочившего на палубу, слизнуло волной и вышвырнуло как пылинку, как перышко за борт в ледяную воду. До сих пор живет то первое, странное ощущение: ему показалось, что его опустили в огромный котел с кипящей ключом водой. Ребята бросили ему трос, он, к счастью, сразу же поймал его, вцепился в него мертвой хваткой замерзающих рук и выпарапался на борт. Буквально за секунды, пока он бежал до кубрика, все его тело покрылось толстым ледяным панцирем. Вспомнив этот случай, Сергей подумал: "Тут-то что, тут твердая земля под ногами, а там была бездна, бездонная пучина коварного и вечно лютующего океана, царство Нептуна. Тут-то не пропадем…"
Вспомнив этот случай, Сергей полумал о том, что до сих пор живет в его душе море и будет жить всю его жизнь, это как первая любовь, раз и навсегда. Не расстался бы с ним никогда, да беда заставила. От частого употребления опресненной морской воды у него заболели почки и врачи списали на берег. Почки он уже вылечил. Камни вышли. И Сергей снова бредит морем. И вернется в тралфлот. Обязательно вернется. Но прежде поборется с Пал Палычем. Нет таким чинушам и бюрократам места среди рабочего люда, гнать их надо с треском, рвать с корнями как чертополох или ставить на свое место. На одну силу, злую, темную есть другая сила, добрая и светоносная. Побеждает по земным законам вторая.
От этих "ледяных" воспоминаний на душе у Сергея стало еще холоднее, и он начал вспоминать лазурные воды Атлантического океана у берегов Африки, палящее солнце над головой, полнейший штиль или теплые пассатные дожди, под которыми стоишь на палубе словно в ванной под душем. Вспомнил он и роскошные заросли вечнозеленых деревьев и кустарников в портах Лас-Пальмас и Санта-Крус-де-Тенерифе на Канарских островах. От этих воспоминаний на душе у него потеплело, словно он не шагал по зимнику, а сидел на палубе "Ковдора", подставив палящим лучам голую спину, и чувствуя, как солнечные лучи горячими пальцами прокусывают кожу.
Слева от зимника, в болотинке, в перемерзших осоках вспорхнула тундрянка. Сергей сразу же насторожился, стал пристально всматриваться в белесый мрак.
"Испугалась кого-то, подумал он с тревогой, – кто-то потревожил и вспугнул тундровую куропатку. Зря так всполохливо она не взлетела бы". И, пристально вглядевшись в убегающий вдаль зимник, Сергей заметил метрах в ста от себя мятущегося по дороге зверя. Он проделывал какие-то странные виражи, метался то вправо, то влево, но навстречу Сергею не бежал. Сергей остановился, снял с правой руки рукавицу, сунул ее в карман, вынул из чехла нож и шагнул навстречу зверю.
"Росомаха. Огромная. Чуть поменьше медведя, – мелькнуло в сознании, – будет схватка. Смертельная. Или я, или она…"
На востоке низкое небо начало заметно сереть. Там, на Большой Земле всходило солнце и занимался новый день. Здесь же, в заполярье, темный свод небес чуть-чуть просветлился и снова померк. Эта мысль мелькнула в голове Сергея, и он подумал: "Новый день. А не последний ли он для меня?"
Не дойдя до росомахи метров пять, Сергей остановился. Остановилась и росомаха. Человек и зверь с минуту стояли один против другого, готовые каждую секунду броситься друг на друга в смертельном броске. Стояли и смотрели один другому в глаза. Круглые зеленые глаза росомахи горели недобрым угрожающим огнем. Сергей чувствовал, что рука с ножом замерзает. Еще несколько секунд молчаливого поединка и он погиб – нож выпадет из руки. Страха, того животного страха, присущего всему живому и который испытывает человек перед смертельной опасностью, у Сергея совершенно не было. Он чувствовал это каким-то подсознанием. Если бы у него появился страх, то цела его были бы плохи. Он наоборот чувствовал в себе тайное сознание своего превосходства. своего могущества перед этим хищным и коварным зверем, властелином тундры. Сергей видел во взгляде хищника, что сейчас, в это мгновение, в эти секунды поединка с человеком он не чувствовал себя властелином. В глазах зверя мелькнул страх. Это Сергея безумно обрадовало, и он с готовностью ждал броска. В следующую секунду ему пришла мысль первому сделать этот бросок на зверя. Он шагнул шаг вперед и изогнулся, готовясь к броску. Росомаха сделала шаг назад и тоже замерла, напружинилась. прошла еще секунда. Сергей сделал еще один шаг. И вдруг еще раз пристально и совсем уже не зло зверь взглянул в спокойные и твердые глаза человека, сделал стремительный бросок в сторону от зимняка, потрусил легкой рысцой и вскоре скрылся в темени. Сергей во всю силу своей глотки прокричал вдогонку.