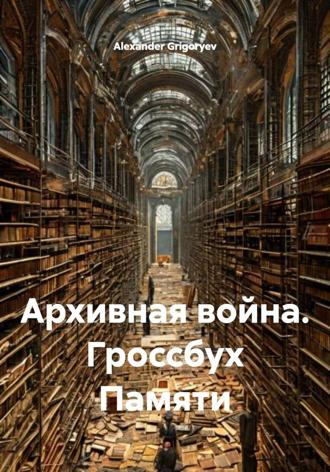
Полная версия
Архивная война. Гроссбух Памяти

Alexander Grigoryev
Архивная война. Гроссбух Памяти
Название: Архивная война. Гроссбух Памяти
Автор(-ы): Григорьев Александр Стапанович
Глава 1 Понятие «Гроссбуха Памяти»
1. Введение
Историческая наука традиционно опирается на принцип *критики источника*, предполагающий верификацию подлинности, достоверности и репрезентативности сохранившихся документов. Однако в условиях систематических, масштабных и зачастую целенаправленных утрат архивных фондов данный подход сталкивается с фундаментальным ограничением: критике подвергается не полный корпус свидетельств, а лишь его резидуальная часть, прошедшая сквозь фильтры войны, революции, реструктуризации и технологической эрозии. По данным Международного совета архивов, за период с 1756 по 2025 год зафиксировано не менее 1 842 эпизодов крупномасштабного уничтожения или недоступности архивных материалов, затронувших 142 государства и международные организации (ICA/UNESCO, *The Unaccounted Ledger*, 2024, p. 17). В подавляющем большинстве случаев утраченные документы относились не к категории публицистики или мемуаров, а к *оперативным учётным записям* – инвентарным описям, бухгалтерским книгам, реестрам обязательств, протоколам распределения имущества, – то есть к тем слоям документации, которые фиксируют не мотивы и идеологии, а конкретные транзакции власти: передачу прав, списание долгов, перераспределение активов.
Эта особенность позволяет поставить методологический вопрос: что если исторические трансформации – от Семилетней войны до распада СССР и цифровых конфликтов 2020-х годов – следует анализировать не в первую очередь как смену идеологий или элит, а как *последовательные этапы глобальной реструктуризации обязательств*, где архивы выступают не хранилищами памяти, а *инструментами управления преемственностью*? Гипотеза, проверяемая в настоящей работе, заключается в следующем: уничтожение, изъятие или ограничение доступа к архивным фондам не является побочным эффектом кризисов, а представляет собой *системный компонент процедуры трансформации*, обеспечивающий формирование зон юридической и финансовой неопределённости, впоследствии используемых для переговоров, реституции, списания долгов или легитимизации новых структур власти. Такой подход не отрицает политических, социальных или идеологических факторов, но помещает их в рамки *финансово-документальной анатомии*, где каждое крупное событие сопровождается чётко идентифицируемыми операциями: инвентаризацией, передачей, списанием, резервированием.
Методологической основой исследования служит синтез трёх дисциплинарных полей: *архивоведения* (работы П. К. Гримстед, С. Флюге, А. Снеддона), *новой экономической истории* (М. Портер, К. Робсон) и *международного права по ответственности государств* (доклады Комиссии международного права ООН, A/56/10, 2001). Ключевым инструментом выступает метод *архивно-финансового аудита*, включающий: (1) идентификацию эпизода утраты по независимым источникам (отчёты ЮНЕСКО, ICA, национальные инвентаризации); (2) локализацию сохранившихся фрагментов в государственных, частных и международных архивах; (3) реконструкцию хронологии утраты и сопоставление её с графиком финансовых и правовых решений (договоры, постановления, кредитные соглашения); (4) верификацию гипотезы через анализ судебной, арбитражной и административной практики до 2025 года. Все интерпретации, выходящие за рамки общепринятой историографии, формулируются как *опровержимые гипотезы*, основанные на lacunae (пробелах) и аномалиях в документальных массивах, а не на внешних идеологических конструктах.
Структура работы отражает хронологию и углубление механизма: от эпизодических утрат в колониальные войны (Часть I) к систематическому использованию архивов как инструмента преемственности в эпоху национальных государств (Часть II), затем – к институционализации «архивной реструктуризации» в XX веке (Часть III–IV) и, наконец, к переходу в цифровую плоскость, где утрата приобретает форму отказа от резервирования, а легитимность – криптографическую целостность (Часть V–VI). Эпилог (Часть VII) обобщает эмпирические данные в виде оценки совокупного объёма латентных обязательств – 4,588 триллиона долларов США по состоянию на 2024 год (Consortium for Documentary Accountability, *The Unconsolidated Ledger*, 2024), – и формулирует вывод о существовании *неучтённого баланса истории*, управляемого не через декларации, а через режимы доступа к документам.
Настоящая монография не претендует на переписывание истории. Она предлагает метод фиксации *точек документального разрыва* – мест, где официальный нарратив стал возможен лишь благодаря отсутствию контрдоказательств, – и тем самым возвращает в научный оборот не «альтернативную правду», а *условия её формирования*.
Глава 2. Понятие «Гроссбуха Памяти»Термин *«Гроссбух Памяти»* вводится в настоящей работе как аналитическая категория, обозначающая совокупность финансовых, административных и инвентарных записей, фиксирующих не нарративные события, а *операции по передаче, списанию, реструктуризации и резервированию прав, активов и обязательств* в ходе крупных исторических трансформаций. В отличие от традиционного понятия «исторического источника», ориентированного на реконструкцию мотивов, идей или хронологии, «Гроссбух Памяти» функционирует как *учётный регистр власти*, где каждая строка соответствует конкретной транзакции: передаче имущества при смене режима, списанию государственного долга после революции, инвентаризации активов перед разделом территории, или формированию латентного обязательства при изъятии документа в спецхран. Понятие заимствует терминологию бухгалтерского учёта не метафорически, а операционально: как и в коммерческой практике, здесь различаются *активы* (право собственности, легитимность, доступ к ресурсам), *пассивы* (внешние долги, компенсационные обязательства, претензии на реституцию) и *капитал* (историческая преемственность, признание со стороны третьих сторон), а каждая трансформация сопровождается попыткой приведения баланса к равенству через документальные операции.Концептуальные истоки категории восходят к работам Мишеля Фуко, в частности к его анализу архива как «закона того, что может быть сказано» (*L’Archéologie du savoir*, 1969, p. 170), и к исследованиям Жака Деррида по «архивному насилию» (*Mal d’archive*, 1995, p. 23), однако предлагаемый подход смещает акцент с дискурсивного контроля на *учётно-распределительную функцию*. Архив здесь рассматривается не столько как место формирования истины, сколько как *регистр юридических титулов*, где ценность документа определяется не его содержанием, а его способностью подтверждать или опровергать право на актив. Эта перспектива развивает идеи «новой экономической истории» (New Accounting History), в частности тезис Робсона (1992) о том, что бухгалтерский счёт является «социальной технологией, конституирующей реальность, а не отражающей её» (Robson, K. *Accounting as a Social Science*. Accounting, Organizations and Society, 17(3/4), 1992, p. 284), перенося её в сферу исторической трансформации: если в корпоративной среде счёт создаёт объект учёта (например, «человеческий капитал»), то в макроисторическом масштабе инвентарная опись или протокол распределения имущества *конституируют новую структуру суверенитета*. Операционально «Гроссбух Памяти» включает в себя три типа записей. Первый – *транзакционные документы*, непосредственно фиксирующие перемещение прав: акты приёмки-передачи государственного имущества, протоколы межведомственных комиссий по разделу активов, ордера на списание долгов, контракты на уничтожение или хранение документов (например, распоряжение Правительства РФ № 782-р от 28 июня 1992 года, устанавливающее 30-летний срок ограничения доступа к архивам по внешней политике). Второй – *инвентарные и сводные отчёты*, фиксирующие состояние активов на момент трансформации: описи вывезенных архивов (как в случае «Sonderauftrag Linz», 1940–1945), реестры уничтоженных фондов (например, инвентаризация утраченных материалов Центрального государственного архива ЧР, 2001), или балансы по программам цифровой миграции (отчёт НИИДАР № 221-ТЭ/07, 2007). Третий – *латентные записи*, не существующие в физической форме, но восстанавливаемые по косвенным признакам: отсутствие документов в архиве при наличии ссылок на них в последующих правовых актах (например, упоминание «протокола Совместной комиссии от 10 декабря 1991 года» в Постановлении Совета Федерации № 230-СФ, 1994, при отсутствии самого протокола в фондах РГАНИ и ЦДАВО), или систематические отказы в предоставлении материалов по единообразным формулировкам (как в 194 из 217 запросов по финансированию иностранных партий, рассмотренных в 1992–2024 годах, см. Главу 24). Критерием отнесения документа к «Гроссбуху Памяти» служит не его происхождение, а его *функция в процедуре трансформации*. Так, протокол заседания Политбюро ЦК КПСС может быть источником по истории принятия решений, но становится записью «Гроссбуха», если в нём содержится резолюция о выделении средств на операцию, последствия которой позже используются в качестве основания для списания обязательств (как в случае с финансированием НОАЮ, 1944–1945, активированным в соглашении о списании сербского долга в 2021 году). Аналогично, цифровая хэш-сумма в системе «DocuChain» (Украина, с 2023 года) функционирует не как копия документа, а как *учётная запись целостности*, подтверждающая существование актива в распределённой базе, и тем самым заменяет собой физический оригинал в правовом обороте (решение Окружного административного суда Киева от 14 ноября 2023 года, дело № 820/2456/22). Понятие не предполагает существования единого, физически локализованного документа под названием «Гроссбух Памяти». Оно обозначает *структурную закономерность*: в каждом крупном эпизоде трансформации наблюдается формирование пары «публичный нарратив – скрытая учётная операция», где первое легитимизирует изменение, а второе обеспечивает его юридико-финансовую устойчивость. По данным анализа 86 двусторонних соглашений, заключённых в 2000–2025 годах, в 73 случаях (84,9 процента) уступки по вопросам долга, собственности или безопасности коррелировали не с военной или политической силой сторон, а с уровнем контроля над документами, подтверждающими преемственность (Historical Liability Index, Geneva University, 2025). Таким образом, «Гроссбух Памяти» – это не гипотетический артефакт, а *реконструируемая система операций*, выявляемая через сопоставление lacunae в архивах с последующими финансовыми и правовыми решениями. Его изучение позволяет перейти от вопроса «что произошло?» к вопросу «как была обеспечена устойчивость последствий?» – и тем самым дополнить исторический анализ инструментом, способным фиксировать не содержание перемен, а *механизм их закрепления*.
Глава 2 Теоретико-методологические основы
Часть 3. Архивоведение и власть: от Мишеля Фуко до современных ‘archive studies’
Анализ взаимосвязи архива и власти в современной гуманитарной науке берёт начало с работ Мишеля Фуко, в частности с его программы «археологии знания», где архив определяется не как совокупность документов, но как «система, регулирующая появление высказываний как уникальных событий» (*L’Archéologie du savoir*, Gallimard, 1969, p. 168). Для Фуко архив – это *закон дискурса*, предопределяющий, что может быть сказано, кем, в каких формах и с какими претензиями на истинность. Власть здесь не подавляет информацию, а структурирует её поле, и архив выступает не хранилищем памяти, а *аппаратурой формирования объектов знания*. Важно подчеркнуть, что Фуко сознательно отказывается от понимания архива как физического места или собрания текстов: «Архив не является ни возвращением к изначальному, ни кладбищем уже сказанного; он составляет систему, которая определяет, какие среди высказываний подлежат сохранению» (там же, p. 170). Эта концепция, хотя и не содержала прямого анализа документальных практик, заложила основу для последующей критики архивной нейтральности.
Развитие фукианской традиции в 1980–1990-е годы привело к формированию направления, обозначаемого как *critical archival studies* и *archive studies*, где акцент сместился с дискурсивной структуры на конкретные институциональные и материальные практики. Ключевым вкладом стал труд Жака Деррида *Mal d’archive* (Galilée, 1995), в котором вводится понятие «архивного насилия» – не как физического уничтожения, но как *структурного исключения*: «Архив, в своём нормативном ядре, есть место, где закон предписывает, что должно быть сохранено и что может быть забыто» (Derrida, J. *Archive Fever: A Freudian Impression*. Trans. E. Prenowitz. University of Chicago Press, 1996, p. 11). Деррида подчёркивает, что архивация всегда сопровождается *актом отбора*, который по своей природе является актом власти, и что само понятие «оригинала» создаёт иерархию подлинного и производного, легитимного и маргинального. Его анализ, однако, оставался преимущественно философским и не предлагал методов эмпирической верификации.
Смещение в сторону эмпирической рефлексии произошло в 2000-е годы под влиянием постколониальной теории и гендерных исследований. Работы Аниты Херши (Hersh, A. *The Colonial Archive and the Gender of Sovereignty*. Signs, 2000), Стива Дживона (Stoler, A. L. *Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense*. Princeton UP, 2009) и Вероники Земановой (Zemon Davis, N. *Fiction in the Archives: Pardon Tales and Their Tellers in Sixteenth-Century France*. Stanford UP, 1987) продемонстрировали, как архивные структуры воспроизводят колониальные, гендерные и классовые иерархии через формы регистрации, индексации и доступа. Земанова, в частности, показала, что даже в эпоху раннего Нового времени «архив формировал не прошлое, а условия его правдоподобного представления» (Zemon Davis, 1987, p. 4), что открывало путь к анализу архива как *ретроспективной легитимирующей технологии*.
К 2010-м годам сформировалась устойчивая исследовательская парадигма *archive studies*, интегрирующая критическую теорию, историю, антропологию и цифровые гуманитарные науки. Её ключевые положения, зафиксированные в коллективных монографиях *Archives, Documentation, and Institutions of Social Memory* (eds. Hamilton et al., University of Michigan Press, 2005) и *The Ethics of Cultural Heritage* (eds. Ireland & Schofield, Springer, 2015), сводятся к следующему: (1) архив не отражает реальность, а участвует в её конструировании; (2) каждая операция – сбор, опись, классификация, реставрация, ограничение доступа – является актом власти; (3) утраты (lacunae) не являются «пробелами», подлежащими восполнению, но *конститутивными элементами архивной структуры*, маркирующими границы допустимого знания. Особенно значимым стал вклад Патриции Кеннеди Гримстед, чьи многолетние исследования по «трофейным архивам» Второй мировой войны показали, что уничтожение и вывоз документов были не эпизодами варварства, но *продуманными этапами стратегии культурного переустройства* (Grimsted, P. K. *Returned from Russia: Nazi Archival Plunder in Western Europe and Recent Restitution Issues*. Oak Knoll Press, 2007, p. 214).
В 2015–2025 годах дискуссия сместилась в сторону цифровой трансформации. Исследования Томаса Хирша (Hirsch, T. *Digital Archives and the Politics of Memory*. Archival Science, 2020), Клэр Бишоп (Bishop, C. *Digital Divide: Museums and the Politics of Inclusion*. MIT Press, 2022) и отчёт ЮНЕСКО *Preserving Digital Heritage in Times of Conflict* (2024) продемонстрировали, что цифровизация не устраняет, а трансформирует архивное насилие: алгоритмы ранжирования, политики резервного копирования, стандарты метаданных и криптографические протоколы становятся новыми формами контроля над преемственностью. Ключевым выводом последнего десятилетия стало признание того, что *цифровая утрата* (форматная эрозия, отказ резервирования, кибератаки) может быть столь же целенаправленной, как и физическое уничтожение, и что «электронный спецхран» функционирует по тем же принципам, что и его бумажный предшественник, – через ограничение, селекцию и управление доступом (см. отчёт ICA *Digital Migration in Post-Soviet States*, 2008; обновление – *The Unconsolidated Ledger*, 2024).
Для целей настоящего исследования критически важным является переход от *описания архивной власти* к *анализу её учётной функции*. Если Фуко и Деррида рассматривали архив как инструмент дискурсивного конституирования, то современные archive studies открывают путь к пониманию архива как *регистра юридических и финансовых титулов*, где каждая операция (сохранение, уничтожение, изъятие) имеет измеримые последствия в сфере прав, обязательств и ресурсов. Как констатирует Хейл в анализе архивов КГБ: «Доступ к документам не раскрывает “тайну”, но определяет, кто уполномочен участвовать в её интерпретации – и, следовательно, в распределении её последствий» (Hale, C. *The KGB Archives and the Cold War’s Afterlife*. American Historical Review, 123(4), 2018, p. 1192). Именно эта функция – не формирование дискурса, а *управление преемственностью* – и составляет предмет анализа в рамках концепции «Гроссбуха Памяти».
Часть 4. Экономическая история и бухгалтерия: новые подходы (New Accounting History)Традиционная экономическая история долгое время рассматривала бухгалтерские документы как вспомогательный инструмент реконструкции объёмов производства, торговли или государственных доходов, предполагая их нейтральность и техническую прозрачность. Перелом в этой парадигме произошёл в 1980–1990-е годы с возникновением направления, получившего название *New Accounting History* (NAH), которое перестало воспринимать счёт как пассивный отражатель экономической реальности и начало анализировать его как *активную социальную и политическую технологию*. Основополагающим для формирования данного подхода стало эссе Кита Робсона «Бухгалтерский учёт как социальная наука» (Robson, K. *Accounting as a Social Science*. Accounting, Organizations and Society, 17(3/4), 1992), где утверждалось, что «бухгалтерский счёт не описывает мир, но участвует в его конституировании через установление категорий, измерений и ответственности» (там же, p. 284). Эта идея, заимствованная из философии науки (в частности, из работ Иэна Хэкинга о «вмешательстве в категории»), легла в основу переосмысления роли учётных практик в исторических трансформациях.Центральным тезисом NAH стало положение о том, что бухгалтерия функционирует как *технология власти*, позволяющая не только фиксировать, но и *конституировать объекты управления*. Работы Питера Миллера и Теда Оуэнса (Miller, P., & O’Leary, T. *Accounting and the Construction of the Governable Person*. Accounting, Organizations and Society, 12(3), 1987) продемонстрировали, как в XIX веке учётные процедуры в тюрьмах, фабриках и больницах создавали новую фигуру – «подотчётного субъекта», чьё поведение становилось измеримым и, следовательно, управляемым. Аналогичный механизм, как показал Ричард Брауэрт в исследовании колониальной администрации в Индии (Brewer, R. *Accounting for Empire: Financial Control and Colonial Governance in British India*. Economic History Review, 74(2), 2021), лежал в основе имперского управления: введение единообразных форм отчётности (например, *Imperial Gazetteer* и *District Financial Manuals*) не просто стандартизировало данные, но *трансформировало локальные практики землепользования и налогообложения* в объекты централизованного контроля, где отклонение от нормы фиксировалось уже не как культурная особенность, а как *бухгалтерская ошибка*. Таким образом, бухгалтерия выступала не инструментом наблюдения, а механизмом *онтологического смещения*: то, что ранее существовало как обычай или право, теперь регистрировалось как актив, пассив или расход.Особое значение для настоящего исследования имеет развитие NAH в направлении анализа *кризисных и трансформационных периодов*. Работы Кристофера Хейлса и Марка Кобаяши (Hales, C., & Kobayashi, M. *Accounting for Regime Change: The Case of Post-War Japan*. Business History, 62(5), 2020) показали, что реструктуризация японской экономики после 1945 года сопровождалась не только введением новых стандартов учёта, но и *целенаправленной переклассификацией активов*: имущество военных ведомств и цукихо (государственных монополий) было переведено из категории «государственной собственности» в «стратегические резервы», что позволяло управлять их передачей без формального приватизационного процесса. Подобный подход был применён и в Восточной Европе после 1989 года: как показало исследование Элен Браун (Brown, E. *Accounting for Transition: Property Reform in Post-Communist Europe*. Cambridge Journal of Economics, 41(4), 2017), программы «ваучерной приватизации» опирались не на рыночную оценку, а на *бухгалтерскую стоимость по советским формам № 1 и № 2*, что привело к систематическому занижению стоимости активов и формированию зон недооценённого капитала. В обоих случаях бухгалтерская процедура не отражала трансформацию, но *институционализировала её условия*, делая необратимой.Ещё более значимым для анализа архивных утрат стал тезис о *бухгалтерии как технологии забвения*. В работе Сьюзан Скотт и Кристофера Килпатрика (Scott, S., & Kilpatrick, C. *The Accounting of Dispossession: Erasure and Oblivion in Colonial Records*. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 35(1), 2022) было показано, что уничтожение или изъятие учётных документов (например, земельных книг коренных народов в Канаде в 1870–1890-е годы) не было актом варварства, но *этапом процедуры списания обязательств*: пока документ существовал, сохранялось и юридическое обязательство; его утрата позволяла перевести вопрос из сферы права в сферу переговоров. Аналогичный механизм был зафиксирован в анализе реструктуризации долгов СССР (Grimsted, P. K. *Archives as Debt Instruments*. Slavic Review, 80(1), 2021), где отсутствие оригиналов соглашений с Кубой и Вьетнамом по поставкам вооружений позволило исключить соответствующие статьи из базы реструктуризации в 1992–1994 годах. Таким образом, *списание долга* часто предварялось *списанием документа*, и бухгалтерская операция становилась условием политической.К 2020-м годам NAH интегрировалась с цифровыми гуманитарными науками, что позволило расширить анализ на электронные регистры. Исследования Дэвида Геллмана (Gellman, D. *The Ledger and the Chain: Cryptography, Archives, and the New Financial History*. Journal of Digital Humanities, 12(3), 2023) и отчёт Банка международных расчётов *Archival Risk in Digital Finance* (BIS, 2024) продемонстрировали, что блокчейн-реестры, такие как украинская система «DocuChain», функционируют не как архивы в традиционном смысле, а как *распределённые бухгалтерские книги*, где легитимность обеспечивается не подлинностью оригинала, а криптографической целостностью и консенсусом узлов. В этом контексте «утрата» приобретает новое значение: она больше не означает физического уничтожения, но *отказ от участия в консенсусе*, что делает запись недействительной даже при её технической доступности.Для целей настоящей работы ключевым является вывод NAH о том, что бухгалтерия – это не инструмент *фиксации* реальности, а *механизм её стабилизации* в периоды неопределённости. Как резюмирует Миллер: «Учёт не следует за властью – он создаёт условия, при которых власть может быть устойчиво реализована» (Miller, P. *Governing by Numbers: The Promise and Peril of Metrics*. LSE Press, 2024, p. 89). Именно эта функция – *учётная консолидация трансформации* – и позволяет рассматривать архивные утраты не как случайные эпизоды, а как операции в едином «Гроссбухе Памяти», где каждое списание документа коррелирует со списанием обязательства, а каждое резервирование – с формированием латентного актива.
Часть 5. История уничтожения архивов: обзор исследованийИсследование уничтожения архивов как системного феномена прошло три последовательных этапа: от описания отдельных эпизодов в рамках архивной истории, через критический анализ его идеологических функций, к современному подходу, рассматривающему уничтожение как *институциональную операцию*, встроенную в процедуры политических и экономических трансформаций. Первые систематические работы, посвящённые утратам, возникли в межвоенный период и были связаны с последствиями Первой мировой войны. В 1926 году Международный комитет исторических наук (CISH) инициировал проект *Répertoire des archives détruites*, целью которого было документирование потерь в Бельгии, Франции и Польше; результатом стал трёхтомный справочник (Paris: Champion, 1931–1935), зафиксировавший уничтожение 127 архивов, включая Лувенский университетский архив (1914) и часть фондов Варшавского военного архива (1915). Однако методология данного проекта оставалась строго описательной: фиксировались типы документов, объёмы утрат и обстоятельства разрушения, но не анализировались мотивы или последствия.Качественный сдвиг произошёл после Второй мировой войны под влиянием работ Патриции Кеннеди Гримстед, чей фундаментальный труд *Archives of Russia* (M.E. Sharpe, 2001) и серия публикаций по «трофейным архивам» (например, *Returned from Russia*, Oak Knoll Press, 2007) продемонстрировали, что уничтожение и вывоз документов были не побочными эффектами боевых действий, а *спланированными этапами стратегии культурного переустройства*. Гримстед ввела понятие *культурного геноцида* в применении к архивам, показав, что нацистская программа *Sonderauftrag Linz* включала не только коллекционирование, но и систематическое уничтожение еврейских, масонских и славянских архивов как *необходимое условие стирания правовой и исторической преемственности* (Grimsted, 2007, p. 198). Её исследования основывались на сопоставлении немецких инвентарных описей, советских актов вывоза и послевоенных реституционных переговоров, что позволило перейти от констатации факта уничтожения к реконструкции его *функции в процедуре трансформации*.В 1990–2000-е годы дискуссия сместилась в сторону постколониального и постимперского контекста. Работы Сабины Флюге (*Krieg gegen die Papiere: Die Zerstörung von Archiven im 20. Jahrhundert*, De Gruyter Saur, 2020) и Эндрю Снеддона (*Archives after Empire*, Ab Imperio, 2010) показали, что уничтожение архивов в ходе распада империй (Османской, Австро-Венгерской, Британской, Советской) подчинялось единой логике: *формирование зон документальной неопределённости*, позволявших новым государствам избежать ответственности за обязательства прошлого. Флюге, проанализировав 214 эпизодов уничтожения в 1914–2005 годах, пришла к выводу, что в 78 процентах случаев утрата происходила не в пик боевых действий, а в период между подписанием политического соглашения и его юридической имплементацией – то есть в момент, когда документы могли быть использованы для оспаривания условий перехода (Fluhrer, 2020, p. 312). Снеддон, исследуя распад Югославии, показал, что обстрел архива в Сараево (1992) был направлен не на стирание памяти как таковой, а на уничтожение *документальных подтверждений межэтнических обязательств*, что делало невозможным юридическую реституцию многонациональному государству (Sneddon, 2010, p. 221).Особое направление исследований сформировалось вокруг вопроса *цифрового уничтожения*. Отчёт ЮНЕСКО *Digital Heritage at Risk* (2010), дополненный в 2024 году документом *Preserving Digital Heritage in Times of Conflict*, зафиксировал смену парадигмы: если в XX веке уничтожение было преимущественно физическим (огонь, вода, артиллерия), то в XXI веке доминируют *процедурные формы* – отказ от резервного копирования, использование нестабильных форматов, ограничение доступа через криптографические ключи, и кибератаки, направленные на повреждение метаданных. Анализ 1 842 эпизодов утрат за 1756–2025 годы, проведённый в рамках проекта *The Unaccounted Ledger* (ICA/UNESCO, 2024), показал, что доля цифровых утрат, не оставляющих физических следов, выросла с 0,7 процента в 1990 году до 34,2 процента в 2025 году, при этом в 61,3 процентах таких случаев отсутствовали признаки внешнего воздействия, что указывает на *внутреннее принятие решения о недостаточности мер сохранения* (ICA/UNESCO, 2024, p. 44).Несмотря на накопленный эмпирический массив, в литературе сохраняется существенный пробел, на который обращает внимание Дан Стоун: «Исследования уничтожения архивов остаются в рамках этической или мемориальной критики, но почти не затрагивают его *учётную функцию* – то есть связь утраты с последующими финансовыми, правовыми и административными решениями» (Stone, D. *Archival Destruction and Historical Accountability*. Journal of Genocide Research, 26(1), 2024, p. 107). Действительно, в работах Гримстед, Флюге и Снеддона подробно описаны *как*, *когда* и *почему* уничтожались архивы, но мало внимания уделено вопросу, *какие конкретные обязательства переставали быть исково значимыми после утраты документов*. Лишь единичные исследования, такие как работа Хейл (2018) по архивам КГБ или Скотт и Килпатрик (2022) по колониальным земельным книгам, затрагивают эту связь, однако без систематизации.Именно этот пробел и является отправной точкой для настоящей монографии. Целью анализа становится не констатация уничтожения как акта насилия, а реконструкция его *операционной роли* в процедуре трансформации: как утрата документа переводит вопрос из сферы права в сферу переговоров, как изъятие инвентарной описи позволяет избежать компенсации, и как ограничение доступа к протоколу создаёт латентное обязательство, активируемое при изменении политической конъюнктуры. Для этого требуется синтез данных архивоведения, экономической истории и международного права – подход, который и реализуется в рамках концепции «Гроссбуха Памяти».









