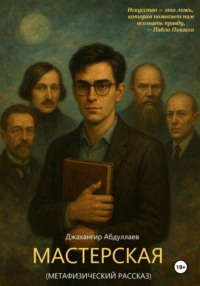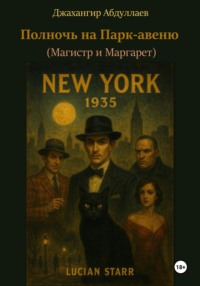Полная версия
Тамерлан. Подлинная история
Джалалуддин удовлетворенно кивнул. «Прекрасно, – подумал он, когда Зайнаб ушла. – Просто прекрасно». Его мозг, мозг диверсанта, мгновенно начал просчитывать варианты. «Книга. Идеальный повод для встреч. Идеальный способ передать яд – не быстрый, нет, а медленный, незаметный, что накапливается в организме. Или ложное послание, которое можно будет „случайно“ перехватить. Или можно будет подменить книгу и вложить в нее свиток с „предательскими“ стихами, а потом донести об этом Тамерлану… Вариантов – десятки».
План работал. Паук сидел в центре своей паутины и наблюдал, как красивая, ничего не подозревающая бабочка летит на огонь. Он проиграл битву. Но он только что начал новую, свою войну. Он больше не будет пытаться убить Тамерлана. Он будет плести свою паутину вокруг единственного существа, которое, как он теперь знал, было способно ранить этого неуязвимого пришельца.
ГЛАВА 5. ОТРАВЛЕННЫЙ МАНУСКРИПТ
Фархад вернулся в отведенные ему покои, но сон не шел к нему. Он, человек, чей разум был тренирован выдерживать невероятные перегрузки и анализировать миллионы единиц информации, чувствовал себя растерянным и разбитым. Его ментальная броня, выкованная в будущем, дала трещину.
Он снова и снова прокручивал в голове ее образ. Ширин. Это имя отдавалось в его душе сладкой болью. Он пытался быть аналитиком. Он заставлял себя думать, как агент. «Вероятность случайного фенотипического совпадения – 0,001%. Невозможно». «Вероятность, что это ловушка, подстроенная Джалалуддином? Низкая. Он не мог знать о Севинч. Он не мог создать двойника». «Вероятность, что это непредвиденный побочный эффект темпорального перемещения? „Эхо“ личности? Возможно, но не доказано».
Логика была бессильна. Его разум, его величайшее оружие, отказывался работать, когда дело касалось ее. Оставалось лишь одно – затопляющее все доводы чувство. Чувство, что он увидел призрака.
«Держаться подальше. Игнорировать. Это единственный правильный ход», – приказал он себе. – «Она – уязвимость. Враг это видел. Любой контакт – это риск. Миссия превыше всего».
Но, приняв это холодное, логичное решение, он не почувствовал облегчения. Наоборот, его душа взвыла от этого приказа. Он провел бессонную ночь, мечась по шатру. И под утро, с первыми лучами холодного солнца, к нему пришла другая, отчаянная мысль.
«Нет. Полное игнорирование – это тоже сигнал. Сигнал страха. Джалалуддин увидит это и поймет, что попал в цель. Он начнет действовать через нее, зная, что я боюсь подойти. Я не могу отдать ему инициативу».
Он понял, что должен действовать сам. Не как влюбленный, а как стратег. Он должен был взять их зарождающиеся отношения под свой контроль. Формальный, вежливый, придворный жест – это не проявление слабости, а демонстрация силы и уверенности. Он обещал ей книгу на глазах у ее отца. Не сдержать слово – значит потерять лицо. А сдержать – значит создать официальный, понятный всем повод для контакта, который он сможет контролировать.
И с первым лучом солнца, приняв это рискованное, но, как ему казалось, единственно верное решение, Фархад отправился в императорскую библиотеку.
Это был не дворец, а огромный, темный шатер, доверху забитый сундуками и ларями. Здесь хранились сокровища иного рода – тысячи рукописей, вывезенных из разграбленных городов: Багдада, Дели, Дамаска. Воздух здесь был густым, пахнущим старой бумагой, кожей и пылью веков.
С помощью старого хранителя-евнуха Фархад нашел то, что искал. Это была не просто книга. Это была поэма Руми, переписанная лучшими каллиграфами и украшенная гениальными миниатюрами гератских мастеров. Каждая страница была произведением искусства. Фархад осторожно перелистывал их, и на его лице, впервые за долгое время, появилось выражение чистого, незамутненного удовольствия. Это был привет из его мира, из мира знаний и красоты.
Фархад, завернув бесценный манускрипт в кусок шелка, позвал к себе молодого гвардейца по имени Тахир. Он приметил его еще в первые дни – юноша был не только силен, но и отличался редкой для воина сосредоточенностью.
– Это – великая ценность, – сказал Фархад, передавая ему сверток из шелка. – Она предназначена для госпожи Ширин, дочери эмира Худайдада. Ты должен передать ее лично в руки ее служанки у входа в женские покои. Никто не должен прикасаться к свертку, кроме тебя. Ты понял?
– Будет исполнено, господин! – ответил Тахир, и его сердце забилось от гордости. Это было не просто поручение. Это была честь.
Тахир, бережно, как младенца, неся сверток двумя руками, шел по лагерю. Он миновал тихий и строгий квартал гвардейцев и вошел в шумную, хаотичную часть лагеря, где жили торговцы, ремесленники и обозная прислуга. Воздух здесь был густым от дыма сотен костров, криков погонщиков и запаха жареного шашлыка. Тахир шел, зорко оглядываясь по сторонам, готовый в любой миг отразить атаку вора или разбойника. Он был готов к прямой, честной угрозе.
Но он не был готов к театру.
В тени шатра торговца коврами за гвардейцем наблюдал Джалалуддин. Он видел, как напряжен молодой воин, как крепко он прижимает к груди сверток. «Гордый петушок, – с презрением подумал старый диверсант. – Он ждет нападения тигра, и не заметит, как его обчистит стая воробьев.» Он подал едва заметный знак.
Джалалуддин подал едва заметный знак. В тот же миг из-за угла, прямо на Тахира, с плачем выбежал мальчишка-слуга. Он «случайно» споткнулся и опрокинул на безупречный парадный халат гвардейца целый кувшин с кислым, липким кумысом. – Прости, о великий воин! Не казни! – заголосил мальчишка, цепляясь за его ноги. Гнев и досада захлестнули Тахира. Его безупречный вид был испорчен. Осмотревшись, гвардеец увидел неподалеку вывеску известной чайханы, откуда доносился дразнящий запах свежеиспеченной самсы. «Ничего страшного, – решил он. – Я потрачу пять минут, чтобы отмыть это пятно, а заодно и перекушу. Кто посмеет меня торопить?»
Он вошел в полутемную, пахнущую луком и горячим тестом, чайхану, осторожно положил драгоценный сверток на дастархан рядом с собой, заказал чаю и две горячие самсы и, попросив у чайханщика таз с водой, принялся оттирать пятно.
Джалалуддин продолжал наблюдать за объектом из тени шатра. Все шло по плану. Чайханщик был его человеком. Пока Тахир, отвернувшись, ругался на свою испорченную одежду, другой «посетитель» чайханы – неприметный торговец – поднялся из-за своего столика. Он «случайно» качнулся, проходя мимо стола Тахира, и, чтобы удержать равновесие, оперся о дастархан, на мгновение прикрыв сверток полой своего халата. Этого мгновения было достаточно, чтобы подменить настоящий манускрипт на заранее подготовленную копию.
Настоящий сверток тут же был передан через заднюю дверь мальчишке-гонцу, который со всех ног бросился к палатке Джалалуддина.
Не прошло и минуты, как как настоящий манускрипт оказался в палатке в руках Джалалуддина. «Поэзия, – подумал он, разворачивая шелк. – Прекрасный сосуд для яда.»
Старый диверсант работал быстро, но без суеты. Его движения были точными, как у хирурга. Он зажег еще одну свечу, и ее свет выхватил из полумрака ряды склянок, пучки сушеных трав и бронзовые ступки. Идеальное прикрытие для лекаря. Идеальная лаборатория для убийцы.
Он надел на руки тонкие, почти невидимые перчатки из кишок ягненка. Затем он достал из своего тайника, спрятанного в двойном дне сундука с трактатами, маленький, граненый кристалл иссиня-черного цвета. Он был холоден на ощупь, словно кусочек замерзшей ночи.
«Какая ирония, – подумал Джалалуддин, глядя на бесценную рукопись Руми, лежавшую рядом. – Они тратят годы, чтобы создать эту пеструю, бесполезную красоту. А я за несколько минут создам то, что разрушит их мир».
Он поместил кристалл в маленькую ступку из нефрита и начал медленно растирать его. Кристалл поддавался с трудом, издавая тихий, высокий звон. Вскоре он превратился в мельчайшую, переливающуюся пыль. Джалалуддин смешал ее с несколькими каплями бесцветного масла из другого флакона. Это был контактный нейротоксин из его времени. Медленный, коварный, не оставляющий следов. Он не убивал. Он медленно гасил жизненную силу.
«Они назовут это меланхолией, – размышлял он, наблюдая, как яд растворяется в масле. – Или сглазом. Придворные поэты будут слагать трагические газели о прекрасной деве, что угасла от тоски по своему возлюбленному. Ни один лекарь в этом веке не найдет и следа моего вмешательства. Это – не убийство. Это – произведение искусства».
Он взял тончайшую иглу. Он не чувствовал ни жалости, ни злости. Лишь холодное, профессиональное удовлетворение. «Она – ключ, – думал он. – Она – эмоциональный якорь, который удерживает „Аномалию“ в этой временной линии. Устранив ее, я не просто причиню ему боль. Я лишу его цели. Я сломаю его дух. Один мертвый цветок, чтобы предотвратить рост целого ядовитого сада его „идеального“ будущего. Цена приемлема».
Джалалуддин осторожно, кончиком иглы, нанес микроскопические капли ядовитого состава на уголки нескольких страниц в середине книги – тех, где были самые красивые, самые яркие миниатюры, которые, как он был уверен, девушка будет часто трогать и подолгу рассматривать. Масло мгновенно впиталось в пористую бумагу, не оставив ни запаха, ни следа.
Он снова аккуратно завернул книгу в шелк. Через десять минут подмененный сверток вернулся на свое место.
Тахир с удовольствием доел вторую самсу. Пятно почти отмылось. Он бросил на пиалу для чайханщика четыре медных пула4, взял со стола (уже подмененный и отравленный) сверток и, ничего не заподозрив, с гордым видом пошел дальше, чтобы доставить свой драгоценный и смертоносный дар по назначению.
А Джалалуддин получил от своего агента весть, что книга благополучно вернулась в руки гонца. План сработал безупречно. Паук смазал свою паутину ядом.
Зайнаб, шпионка Джалалуддина, уже ждала гонца у входа в женскую половину павильона эмира Худайдада. Она приняла из рук молодого гвардейца шелковый сверток с выражением подобострастного почтения.
– Я немедленно передам его госпоже, – сказала она, низко кланяясь. – Она будет очень рада.
Она вошла в покои Ширин. Здесь, в отличие от грубого, мужского мира военного лагеря, царили покой и уют. В жаровне тлели благовония, на низком столике стояла ваза с веточкой цветущего миндаля, а на коврах были разбросаны свитки с поэзией.
Ширин сидела у окна, глядя на суету лагеря. Она была задумчива.
– Госпожа, – тихо произнесла Зайнаб. – Вам… подарок. От Эмира Знаний.
Девушка обернулась, и ее лицо мгновенно озарила улыбка. Она увидела знакомый узор на шелке и, не скрывая нетерпения, взяла сверток. Она развернула его и ахнула от восторга. Рукопись была чудом. Ее переплет из темно-синей кожи был украшен сложнейшим золотым тиснением, а бумага была такой гладкой и белой, какой она никогда не видела.
Она провела пальцем по золотому узору на переплете, а затем, с замиранием сердца, начала осторожно перелистывать страницы. Каждая из них была произведением искусства. Искусный каллиграф вывел строки Руми, которые, казалось, не были написаны, а пели сами. А миниатюры… они сияли чистыми, глубокими красками, и в них была целая вселенная.
Ее взгляд упал на одну из страниц, и она, затаив дыхание, прочитала строки вслух. Ее голос был тихим, почти шепотом, но он наполнил комнату теплом.
– «В любви и тернии розами становятся, в любви и уксус – сладким вином…»
Она замолчала, глядя на строки, но видя перед собой его лицо. «Он, которого все боятся, как колючий терновник, – подумала она, – для меня он… как роза». И ее палец, полный этой новой, сладкой мысли, снова лег на уголок страницы, впитывая безвкусный, бесцветный яд.
Зайнаб смотрела на эту юную, сияющую от счастья девушку, и в ее старом, выжженном интригами сердце на мгновение шевельнулось что-то похожее на жалость. Она видела перед собой не объект для шпионажа, а просто ребенка, радующегося красивой игрушке. И она знала, что эта игрушка – смертельна. Но она тут же подавила в себе эту слабость. Ее верность старому табибу, спасшему ее семью, была сильнее мимолетной жалости.
– Он… он удивительный, – прошептала Ширин, обращаясь больше к себе, чем к служанке. – Он единственный, кто… Она не закончила.
– Да, госпожа, – тихо и почтительно ответила Зайнаб, глядя, как ее госпожа снова проводит пальцами по отравленной странице. – Он очень… внимательный.
Фархад стоял на холме у ставки Тамерлана и смотрел, как его гвардеец, маленький силуэт в огромном лагере, скрылся за шатрами. Его миссия была выполнена.
Он смотрел на закат. Солнце садилось за горизонт, и его последние лучи окрашивали заснеженную степь в нежно-розовые и золотые тона. Внизу раскинулся многотысячный лагерь – живой, дышащий город, полный дыма от костров и людского гомона. Этот мир, который он спас. И в центре этого мира теперь был маленький, теплый огонек – душа, которая его поняла.
Разум агента, холодный и безжалостный, кричал ему: «Ты совершил ошибку. Ты позволил себе эмоцию. Ты создал привязанность. А привязанность – это уязвимость. Ты только что собственными руками вручил своему врагу, Джалалуддину, идеальное оружие против себя».
Но другая его часть, душа Хранителя, отвечала ему: «Нет. Я не могу спасти этот мир, оставаясь для него чужим, стерильным призраком. Чтобы защитить их человечность, я должен обрести свою собственную».
Он чувствовал, что сегодня, несмотря на всю опасность, построил маленький, хрупкий мостик к душе другого человека. И впервые за долгое, мучительное время он почувствовал не только тяжесть своей миссии, но и слабую, трепетную надежду.
А в другом конце лагеря, в своей темной, убогой палатке лекаря, Джалалуддин сидел в тишине. В углу, под потолком, паук медленно плел свою паутину. Джалалуддин наблюдал за его неторопливой, методичной работой с холодным восхищением.
Перед ним на сундуке горела одна-единственная сальная свеча. Он достал из-за пояса свой острый хирургический скальпель. И на крышке старого, потрепанного сундука он медленно, с нажимом, процарапал первую черту.
«День первый, – подумал он. – Яд нанесен». Он не знал, сколько их понадобится – тридцать или сто. Его оружие было не похоже на яд скорпиона, который убивает мгновенно. Его яд был подобен печали. Он действовал медленно, капля за каплей, проникая в кровь, гася волю к жизни, превращая смех в тихую тоску, а румянец на щеках – в мертвенную бледность.
«Они не поймут, – размышлял он, глядя на царапину. – Они будут винить злой глаз, дурное предзнаменование, тоску по дому. А Фархад, их великий целитель, будет бессилен. Он будет смотреть, как его цветок медленно увядает, и вся его наука, вся его магия из будущего не смогут ему помочь. И это сломает его».
Паук в углу закончил свою работу и замер в центре, ожидая. Джалалуддин тоже был терпелив. Он был охотником. Он больше не будет гоняться за своей дичью. Он смазал свою паутину ядом и теперь будет спокойно ждать, пока прекрасная, ничего не подозревающая бабочка, трепеща от счастья, сама не умрет в его сетях.
ГЛАВА 6. ЛЕГОЧНАЯ ХВОРЬ
Зима вцепилась в степь мертвой хваткой. Великое Воинство, застрявшее в Отраре в ожидании весны, изнывало от безделья и холода. Эйфория от начала великого похода давно улеглась, сменившись серой, монотонной, изматывающей рутиной.
В шатрах эмиров и полководцев, устланных персидскими коврами, ярко горели бронзовые жаровни. Слуги разносили горячий, пряный чай, а вечера проходили в пирах, игре в шахматы и ленивых разговорах о грядущей добыче. Это был островок тепла и сытости, окруженный замерзающим морем.
За пределами этого островка, в тысячах простых солдатских палаток, царила другая реальность.
Для Джахана и его товарищей день начинался и заканчивался холодом. Пронизывающий, безжалостный степной ветер с ледяным воем проникал сквозь все щели в их грубом, прохудившемся войлоке. Солдаты, одетые в тонкие, потрепанные халаты, спали вповалку, прижавшись друг к другу, как овцы в буран, пытаясь согреться теплом собственных тел. Днем они часами стояли в карауле на стенах, и их лица превращались в обветренные, безжизненные маски.
– Еще одна такая неделя, и я сам превращусь в ледышку, – просипел друг Джахана, Рустам, пытаясь раздуть чадящий костер из сырого саксаула. Дым ел глаза, но давал лишь иллюзию тепла.
Но холод был не главным врагом. Главным врагом стала «легочная хворь».
Она приходила тихо, с простым, сухим кашлем. Затем начиналась лихорадка, бросая человека то в жар, от которого он сбрасывал с себя все одеяла, то в чудовищный озноб, от которого не спасали и три тулупа. Дыхание становилось хриплым, прерывистым, а губы синели. И через несколько дней воин, который мог выдержать удар сабли, умирал, задохнувшись в своей палатке.
В тот день Джахан видел, как из соседней палатки вынесли тело старого воина Али. Он умер ночью. Его не хоронили с почестями. Похоронная команда, состоявшая из таких же замерзших, апатичных солдат, просто завернула тело в старый ковер и унесла его за пределы лагеря, в общую, промерзшую насквозь могилу. – Уже третий из нашей сотни на этой неделе, – прошептал Рустам, глядя им вслед. – Это не хворь. Это – проклятие. Духи этой земли не хотят нас пускать в Катай.
Каждый день похоронные команды уносили десятки тел. Армия, не сделав и выстрела, несла потери, и этот тихий, невидимый враг был страшнее любой китайской армии.
В большом шатре-лазарете, самом длинном и самом холодном во всем лагере, стоял тяжелый, удушливый запах. Это была смесь запахов пота, крови, гноя и горьких отваров, которые кипели в котлах над жаровнями, наполняя воздух едким паром. Сотни воинов лежали на соломенных тюфяках, и их тихое, скорбное стенание сливалось в единый, бесконечный гул, похожий на гудение потревоженного осиного гнезда.
Джалалуддин, хоть и был унижен, оставался одним из главных врачевателей. Он метался от одного больного к другому, и его лицо, обычно непроницаемое, было серым от усталости и глухого, бессильного гнева.
– Табиб… воды… – прохрипел молодой воин, вцепившись в его халат костлявой, горячечной рукой. Джалалуддин молча дал ему чашу с отваром. Он, как врач из будущего, понимал, что происходит, с ужасающей ясностью. Холод, скученность, плохое питание – все это создало идеальную почву для бактериальной пневмонии. Он знал, что этим людям нужен не отвар из корня солодки, а простой, примитивный пенициллин, который в его времени был доступен каждому ребенку.
Но его методы – кровопускание, чтобы «выпустить дурную кровь», припарки из трав, чтобы «смягчить жар», и бесконечные молитвы – не помогали. Он видел, как могучие воины, выжившие в десятках битв, умирают от болезни, которую в его мире лечили за три дня. И он ничего не мог сделать.
«Я – врач! – думал он с яростью, переходя к следующему умирающему. – Я посвятил изучению медицины всю свою жизнь! А я стою здесь и бормочу молитвы, как невежественный мулла, потому что у меня нет нужных инструментов!»
К нему подошел молодой лекарь.
– Учитель, мы теряем их, – прошептал он с отчаянием. – Ваши отвары не помогают. Может, стоит попробовать прижигание?
– Молчи, глупец! – оборвал его Джалалуддин. – Мы делаем то, чему нас учили великие! Если воля Аллаха – забрать их, мы бессильны.
Это была маска. Маска смирения, которую он носил для этого примитивного мира. Но в душе его кипел иной, холодный расчет. «Это хорошо, – говорила одна его часть, часть диверсанта. – Пусть умирают. Армия слабеет. Моя миссия выполняется сама собой». Но другая его часть, гордость врача, уязвленного гения, страдала.
И все его бессилие, вся его ярость, вся его профессиональная униженность находили один-единственный выход. Глухую, тлеющую ненависть к Фархаду. К тому, кто одним своим появлением, одним своим «чудом» перечеркнул все его знания, весь его многолетний опыт. К тому, кто сейчас, наверняка, сидит в своем теплом, роскошном шатре, и ему нет дела до этих умирающих муравьев.
«Он может исцелить императора одним прикосновением, – думал Джалалуддин, и его зубы скрипели. – Но он не приходит сюда. Потому что ему плевать. Или… потому что он сам наслал эту хворь, чтобы ослабить армию?» Эта мысль, ядовитая и несправедливая, показалась ему спасительной. Да. Конечно. Это все он. Колдун.
Джалалуддин посмотрел на ряды умирающих. И его бессилие врача уступило место холодной решимости диверсанта. Он не мог победить эту болезнь. Но он мог ее использовать. Он мог направить гнев и страх этих людей на истинного, как он теперь считал, виновника их страданий.
Но болезнь, как и смерть, не разбирала чинов. Она, как слепая жница, шла по лагерю, и ее серп не делал различий между простым воином и знатным эмиром. Однажды вечером она нанесла удар в самое сердце «старой гвардии».
В просторном, устланном волчьими шкурами шатре Шейха Hyp ад-Дина было жарко от дыхания десятка могучих воинов и жара спора. Старый полководец собрал своих самых доверенных эмиров, чтобы обсудить грядущую кампанию. Среди этих седобородых, покрытых шрамами ветеранов, ярким пламенем горела молодость. Темур-Малик, семнадцатилетний племянник и любимец Шейха, был гордостью всего их рода. Красивый, сильный, отчаянно храбрый юноша, который уже успел заслужить уважение ветеранов. Старый Шейх, не имевший своих сыновей, видел в нем свое продолжение, свою будущую славу.
– Мы не должны ждать милости от этого колдуна Фархада! – с юношеским пылом говорил Темур-Малик, склонившись над картой. – Сила нашей армии – в стремительности! Мы должны ударить первыми, взять их пограничные крепости до того, как они опомнятся!
Шейх Hyp ад-Дин слушал его, и его суровое лицо смягчалось от гордости. «Настоящий лев, – думал он. – В нем течет кровь наших предков, а не чернила, как у этих книжников».
Внезапно, на полуслове, Темур-Малик замолчал. Его молодое, румяное лицо исказила судорога. Он согнулся пополам, и его сотряс глубокий, раздирающий грудь, сухой кашель, от которого, казалось, лопнут жилы на его шее.
– Что с тобой, мальчик? – встревоженно спросил Шейх, поднимаясь.
– Ничего… пыль… – прохрипел Темур-Малик, пытаясь выпрямиться. – Воды…
Когда ему поднесли чашу, все увидели, что его рука, еще минуту назад уверенно лежавшая на эфесе меча, сильно дрожит. На его лбу, несмотря на холод в шатре, выступили крупные капли пота, а щеки горели нездоровым, лихорадочным румянцем.
Старые эмиры, видевшие эту картину уже сотни раз за последние недели в палатках простых солдат, в ужасе переглянулись. Они смотрели на юношу, как на зачумленного. «Легочная хворь», «проклятие китайской земли», болезнь, которую они считали уделом простолюдинов, только что, на их глазах, перешагнула порог их элитного круга и вонзила свои невидимые когти в их самое дорогое сокровище.
Через два дня роскошный шатер Шейха Hyp ад-Дина превратился в склеп. Воздух был тяжелым от дыма благовоний, которыми пытались перебить запах болезни. Юный Темур-Малик горел в лихорадке. Он лежал на груде соболиных мехов, но его била неукротимая дрожь. Его дыхание было коротким, хриплым, и он уже не узнавал тех, кто склонялся над ним.
Лучшие лекари, включая самого Джалалуддина, не отходили от его постели. Но их искусство было бессильно. Они пробовали все: пускали кровь, чтобы «выпустить жар», ставили на грудь припарки из горчицы и меда, поили его десятками горьких отваров. Но болезнь, этот невидимый враг, лишь смеялась над их усилиями. Темур-Малик угасал на глазах.
Шейх Hyp ад-Дин, этот старый, страшный волк, чьего взгляда боялись даже принцы, превратился в отчаявшегося старика. Он сидел у постели племянника, и его огромное, привыкшее к доспехам тело, казалось ссохшимся и беспомощным. Он держал горячую, сухую руку юноши и смотрел на его пылающее лицо. Он видел не просто своего племянника. Он видел свое будущее. Он вспоминал, как учил этого мальчика сидеть в седле, как впервые вложил в его руку лук, как гордился, видя его первую победу в учебном бою. Вся его жизнь, вся его слава воина, казалось, была лишь прелюдией к славе этого львенка. И теперь этот львенок умирал у него на руках.
«Я брал штурмом города, – думал он с яростью и отчаянием. – Я рубил на куски тысячи врагов. А я не могу победить простую хворь. Я, который повелевает туменами, бессилен перед кашлем и жаром. Какая же цена всей моей силе?»
На третий день, на рассвете, Джалалуддин, после бессонной ночи, вышел из шатра. Он подошел к Шейху, который сидел у входа, и со скорбным, полным сочувствия лицом, положил руку ему на плечо. – О великий эмир, – произнес он. – Я использовал все знания, что оставили нам великие Ибн Сина и Ар-Рази. Мы молились всю ночь. Но злой дух, что вселился в тело юноши, сильнее наших лекарств и наших молитв. Мы сделали все, что могли. Теперь его судьба в руках Аллаха.