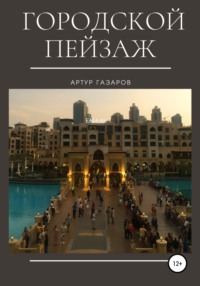Полная версия
Шепот Ариадны

Артур Газаров
Шепот Ариадны
Глава 1
Гонец из внешнего мира
Призраки в Городе Бумаг
Тишина в «Городе Бумаг» была не пустой, а густой, слоистой, как вековая пыль на стеллажах, теряющихся в поднебесье, в кромешной тьме, где должен был быть потолок. Она была тяжелым, дышащим полотном, сотканным из скрипа старых деревянных балок, из едва слышного шороха бумаги, медленно превращающейся в труху под гнетом времени, из приглушенного, ровного дыхания Льва Корсакова. Это дыхание было глухим эхом, отдающимся в его собственной грудной клетке – единственный ритм, подтверждающий, что он еще не стал частью этого архива забвения, не растворился в нем без остатка, как последняя строка на пожелтевшем бланке.
Корсаков шел по нескончаемому коридору, узкому ущелью, прорубленному между скалами из картонных корешков, которые вонзались в бархатный мрак своими острыми, неровными краями. Свет фонаря, дрожащий и желтый, словно последний осенний лист, выхватывал из мрака не названия, а инвентарные номера: «Сектор Г-7. Дела 1945-1951». Никаких смыслов, только цифры. Безликие, чистые, стерильные. Система. Порядок. Это его устраивало. Его собственная жизнь за последние три года тоже свелась к инвентарной описи: обход сектора «Г», проверка ржавых замков на хранилище №7, чай в сторожке у радиоприемника, с треском в динамике ловившего лишь белый шум далеких звезд. Он не жил, он выполнял функцию. Функция «Сторож». Алгоритм «Анахорет». Идеальная система без сбоев, без прошлого, без будущего. Одно лишь бесконечно тянущееся, застывшее настоящее.
Его тяжелые, наглухо зашнурованные ботинки отбивали по бетонному полу мерный, гипнотический ритм, и этот стук был единственной музыкой холодного подземного царства. Внезапно, в такт этому стуку, в виске застучала боль – острая, знакомая, как удар отточенного ножом воспоминания. Не боль, а скорее ключ, отпирающий потайную дверь, которую он так тщательно замуровал. Перед глазами, будто от ослепительной вспышки магния старого фотографа, возникло лицо: перекошенное маской первобытного, животного ужаса, рот, растянутый в беззвучном, отчаянном крике. «Не входи!» – чей-то голос, его собственный, но сорванный, искаженный паникой, чужой, пронзительный, разрезающий память, как стекло. Затем – оглушительный, разрывающий мир на атомы грохот, от которого звенело в ушах даже сейчас. Эхо того дня. И вновь – всепоглощающая, победная тишина, наступившая после.
Корсаков остановился, прислонившись горящим виском к ледяному, покрытому инеем конденсата металлу стойки. Пахло окисленным железом, временем и тотальным, безразличным забвением. Он глубоко, с усилием вдохнул, выдохнул, пытаясь прогнать призрака, как заклинание, вернуть в ту сейфовую ячейку памяти, где он хранился. Эти воспоминания-диверсанты, эти партизаны из прошлого, приходили все реже, но всегда без предупреждения, безжалостно напоминая, что его личный архив, полный кровавых протоколов и невысказанных обвинений, еще не был сдан в макулатуру, не был предан огню. Корсаков сглотнул горький, медный ком в горле и тронулся дальше, вглубь лабиринта. Лабиринта, который он выстроил для себя собственноручно, каменная стена за каменной стеной.
Конфронтация. Послание из-за Стены
Снаружи, у чугунной, покрытой вековой ржавчиной проходной, залитой грязно-желтым, больным светом одинокого фонаря, стояла машина. Иномарка, чужая и неуместная, как космический корабль, приземлившийся на заброшенном огороде. Ее чистый, лаковый кузов брезгливо отталкивал грязь и уныние этого Богом забытого места. Дверь открылась беззвучно, и из нее вышла женщина в строгом, прямом пальто, цвета промозглого питерского неба. Ирина Петровна Сомова. Ее лицо, освещенное тусклым, обреченным светом, было бледным и напряженным, как струна, в руках она сжимала кожаный портфель, не как аксессуар, а как щит, как последний оплот реальности, из которой она приехала.
Сомова шла за Львом Александровичем по лабиринту коридоров, и ее взгляд, острый, аналитически вышколенный, сканировал его сгорбленную спину, потертую, пропахшую пылью телогрейку, руки, глубоко засунутые в карманы, будто прячущие нечто большее, чем просто пальцы – словно вцепившиеся в собственное прошлое, чтобы не дать ему вырваться. Она искала в этой согбенной, уставшей фигуре тень того Льва Корсакова, чьи лекции по криминальной психологии когда-то собирали полные аудитории, чьи теории переворачивали представление о природе зла. Того, кто мог мысленно влезть в шкуру маньяка, прочувствовать его страх, его ярость, его извращенную, пульсирующую логику. Ирина нашла лишь оболочку, пустую скорлупу, из которой, казалось, вынули все содержимое и заменили его тишиной. Его глаза, когда он наконец обернулся у двери своей конуры, были как два высохших колодца – глухие, бездонные, без отражения, не обещающие ни капли влаги.
– Лев Александрович, – начала она, и ее голос, отточенный в строгих кабинетах и на безжалостных допросах, прозвучал здесь, среди этой гробовой, священной тишины, кощунственно громко, как выстрел.
– Ирина, – его голос был плоским, лишенным каких-либо обертонов, словно он разучился не только чувствовать, но и говорить. – Заблудилась? Дорогу к трассе покажу.
– Я не заблудилась. Я к тебе.
Сторожка оказалась такой же, как и он сам – аскетичной до боли, до щемящей пустоты. Голые, обшарпанные стены, железная койка с серым, истончившимся байковым одеялом, стол, заваленный книгами. Но не детективами, не триллерами, не учебниками по криминалистике. Труды по стоической философии, трактаты по истории Византии, мемуары забытых полководцев. Бегство от реальности в спасительные, невероятно далекие лабиринты абстракции, где боль была лишь концепцией, а смерть – исторической метафорой.
Диалог давался тяжело, с усилием, как перемещение валунов в одиночку. Каждая фраза требовала от него мышечного напряжения.
– У нас дело, Лев. Сложное. Странное. Не укладывается ни в какие схемы. Оно… живое. И пульсирующее.
– У вас – дело, – отчеканил он, глядя куда-то мимо нее, в стену, словно читая на ней невидимый, единственно важный текст. – У меня – работа. Сторожить- От слова «сторона». Я в стороне. От всего. От ваших схем и всего, что в них не укладывается.
– Местные участковые уже все списали. Классифицировали как бытовуху. Пьяная драка со смертельным исходом. Но я была там. Я видела. Там… там всё не так. Там театр. Поставленный с леденящим душу вкусом.
– В нашем мире много чего «не так». Я здесь именно поэтому, – он сделал глоток холодного, горького чая, и рука его не дрогнула, была стабильна, как скала. Он был непробиваем, как крепостная стена, за которой остался лишь гарнизон из одного человека.
Его отказы были отточены за годы добровольного отшельничества, они были остры, как скальпель, и холодны, как лед на Неве в январе. Но за этой броней клокотал страх. Не страх перед пулей или ножом, а того, что случится внутри, в самых потаенных чертогах его сознания. Он боялся снова окунуться в бездну чужой, извращенной боли, в тот океан человеческого страдания, из которого едва выполз на четвереньках, истаявший и опустошенный. Он боялся, что его дар – эта проклятая, неконтролируемая «эмпатическая реконструкция» – снова сыграет с ним в жуткую игру, затянув его сознание в водоворот чужого безумия, заставив дышать его воздухом и думать его категориями. Корсаков боялся сломаться окончательно, навсегда, без возможности восстановиться.
Ирина отступила. Не в голосе, не в решимости, а в тактике. Она поняла, что лобовая атака здесь лишена смысла. Молча, почти с благоговением, как священник, прикасающийся к реликвии, она достала из портфеля тонкую папку цвета мокрого асфальта после осеннего дождя, и положила ее на стол, прямо на раскрытый том Сенеки, будки бросая вызов его стоическому спокойствию.
– Хорошо. Не помогай. Не выходи из своей крепости. Но взгляни, Лев. Просто взгляни. Как на академический пример. Как на логическую загадку из прошлого, которая тебя когда-то заинтересовала бы.
Ирина не стала ждать ответа, развернулась и вышла, оставив за собой в воздухе легкий шлейф духов – чужой, неуместный аромат другого мира. Ее шаги, отчаянно громкие в этом царстве безмолвия, быстро затихли в коридоре, поглощенные ненасытной, всепожирающей тишиной. Корсаков не двинулся с места, глядя на папку, как смотрят на ядовитую, но прекрасную змею, которую не решаются ни тронуть, ни отпустить, завороженные смертельной опасностью.
Пробуждение Зверя
Ночь сомкнулась над «Городом Бумаг» еще плотнее, став почти осязаемой, тяжелой субстанцией, давившей на плечи и виски. Корсаков пил свежезаваренный крепкий чай, пытался читать о доблестях и мудрости древних римлян, но буквы упрямо расплывались, складываясь в чужие, незнакомые, пугающие узоры. Серый уголок папки, торчащий из-под книги, манил его, гипнотизировал, как одинокий огонек мотылька в полной, абсолютной тьме, сулящий либо спасение, либо гибель.
«Просто взгляни. Как на загадку».
Корсаков резко отхлебнул из кружки, обжег язык, выругался сквозь зубы тихо и зло. Проклятое, неистребимое, как сорняк, любопытство. Ржавый, но все еще прочный гвоздь, на котором когда-то висела вся его жизнь, его личность, его причина существовать, его «я». Оно царапалось изнутри, требуя выхода, требуя пищи.
Рука дрогнула, когда Лев Александрович щелкнул зажигалкой. Пламя, рожденное в ладонях, осветило его лицо, прочертив на нем глубокие, как шрамы, тени, подчеркнув впалость щек и жесткую складку у рта.
«Не входи!»
С силой затянувшись едким, обжигающим легкие дымом, Корсаков потянулся к папке. Медленно, будто преодолевая физическое сопротивление невидимой силы, толщи времени, страха, он развязал плотную шнуровку и резко, одним решительным движением, раскрыл ее, словно вскрывал нарыв.
Верхний лист. Фотография. Общий план какого-то книгохранилища, похожего на это, но более современного, стерильного. И на полу, между бездушными металлическими стеллажами, лежало тело. Мужчина. Поза… поза эмбриона, но не умиротворенная, а искаженная судорогой. Не просто мертвая, а неестественно скрюченная, будто в последний, отчаянный миг он пытался свернуться калачиком, вернуться в небытие, спрятаться от невыносимого ужаса, который на него обрушился.
Он перелистнул. Крупный план. Лицо. И тут его дыхание перехватило, словно удавкой. Рот и глаза… они не были просто закрыты. Они были залиты чем-то темно-бордовым, почти черным, густым и блестящим. Расплавленный сургуч. Запечатаны. Навеки. Веки слиплись в единую, бугристую корку, губы склеились в немом, вечном крике. Жестокий, театральный, почти ритуальный, языческий жест. Это был не просто акт насилия. Это было послание. Закодированное, многослойное, адресованное тому, кто сможет его прочесть.
И последнее фото. На груди жертвы, поверх дорогого, мятом шелковом пиджака, аккуратно, с педантичной точностью архивариуса, приведшего в порядок чужую жизнь, лежала библиотечная карточка. Пожелтевшая от времени, ветхая. Крупным планом была видна дата, отпечатанная старомодным, бьющим по клавишам шрифтом пишущей машинки. Ровно тридцать лет назад. До дня. Как отсчет.
И тут его сердце сжалось не от страха или отвращения, а от чего-то иного, давно забытого и до боли родного. От щелчка совершенного механизма. От дежавю, помноженного на вышколенную, спавшую до поры профессиональную интуицию. В мозгу, как по команде, зажглись нейроны, долгие годы пребывавшие в спячке.
Это не было случайностью. Это не была бытовая, грязная ссора. Это даже не было убийством в привычном, утилитарном смысле. Это был текст. Тщательно составленный, выверенный, закодированный в жестах, в материалах, в символике. Кто-то писал книгу, используя в качестве чернил смерть, а в качестве знаков препинания – боль и страх. Кто-то вел диалог. И теперь ждал ответа.
Корсаков откинулся на спинку стула, закрыл глаза, ощущая, как потемки под веками наполняются новыми, старыми образами. Внутри, в той самой глубине, которую он так тщательно консервировал три долгих, безмолвных года, что-то щелкнуло с окончательной, необратимой четкостью. Шевельнулось. Проснулось дремавшее чутье, голодный, выдрессированный до автоматизма зверь, учуявший наконец знакомый, терпкий, как вино, запах крови и человеческой тайны.
Лев Александрович открыл глаза. Взгляд Корсакова был уже другим – острым, сфокусированным, живым, в нем зажегся тот самый огонь, который Ирина тщетно искала всего час назад. Он снова посмотрел на фотографию запечатанного лица. На карточку. На дату. Теперь это были не просто улики. Это были слова.
– Ладно, – тихо, но четко, с новой, рождающейся силой прошептал Корсаков наступающую, уже не всесильную тишину. Голос его обрел металл, сталь, которую не смогли сточить годы. – Покажи мне, что ты хочешь сказать. Я слушаю.
Его профессиональное «я», похороненное заживо в этих катакомбах из бумаги и забвения, подало первый, уверенный признак жизни. Цепь сброшена. Охота началась.
Глава 2
Эмпатия к мертвецу
Ультиматум смотрителя
Рассвет в «Городе Бумаг» был не явлением света, а лишь ослаблением тьмы, разбавлением черной туши до оттенка мокрого асфальта. Серая, безжизненная муть лениво просачивалась в высокие, зарешеченные и покрытые вековой пылью оконные витражи, превращая монументальные стеллажи в размытые, призрачные силуэты, в исполинские надгробия закопанных слов и забытых истин. В этой предрассветной тишине, пахнущей старой бумагой, влажным холодом и тоской неизбывного одиночества, Лев Корсаков стоял перед Ириной Сомовой. Его лицо, освещенное косыми, падающими под углом лучами блеклого света, было похоже на старую, потрескавшуюся фреску, сквозь которую внезапно, как сквозь толщу лет, проглянула живая, незнакомая ей и потому пугающая, почти чужая боль.
– Я согласен, – произнес Лев Александрович, и слова его прозвучали низко, хрипло, как скрип ржавых, много лет не открывавшихся петель ворот, которые, казалось, уже навеки срослись с каменной кладкой. – Но не помогать тебе. Смотреть. Видеть. Читать.
Ирина, почувствовав слабый, но отчетливый укол надежды, открыла было рот, чтобы возразить, уточнить, попытаться выстроить привычные рамки протокола, но Корсаков резко, почти отрывисто поднял руку. Жест его был отстраненным, иероглифическим, отсекающим любые возражения, словно он рассекал невидимую нить между их мирами.
– Мои условия, – продолжил Корсаков, и его голос, еще недавно плоский и безжизненный, обрел стальную, упругую нить решимости, которую Сомова не слышала в нем все эти долгие годы. – Не обсуждаются. Они – основа, на которой может что-то вырасти. Или ничего.
Лев Александрович сделал паузу, давая ей прочувствовать вес этих слов, вживить их в сознание, как вживляют шипы.
– Первое. Я работаю один. В своем ритме. Вы – все ваши люди в начищенных до блеска ботинках и с протоколами на языке – не лезете сюда. Не пытаетесь «координировать» или «курировать». Ваши оперативники не снуют тут, не топчут воздух, не своим чужим дыханием нарушают тишину, которая здесь не пустота, а инструмент. Это моя территория. Мой лабиринт. И я в нем единственный Минотавр.
Ирина молча, медленно кивнула, понимая всем существом, что это не протокол, не служебная инструкция, а некий глубинный, почти забытый ритуал, условие сделки с темными силами, которые она сама призвала.
– Второе. Вы – единственная связь с внешним миром, который мне до лампочки. Вы – мой доступ. К архивам, к протоколам, к базе данных. Ко всему, что мне понадобится. Без вопросов «зачем» и «почему». Без сомнений и предостережений. Я прошу – вы даете. Как подают скальпель хирургу, не спрашивая, для чего он ему нужен.
– Лев Александрович, но процедура… – начала было Ирина, по старой, въевшейся в подкорку привычке цепляться за устав.
– Процедура уже провалилась! – отрезал Корсаков, и в его глазах, тех самых высохших колодцах, на мгновение вспыхнул и тут же погас отблеск былого, яростного темперамента, как далекая молния на ночном горизонте. – Ваши процедуры видят форму, а не содержание. Они фиксируют отпечатки пальцев, но не читают отпечаток души, не видят шрамов на совести. Здесь убивали не человека. Здесь списывали книгу. Я буду читать. А вы будете молча, как послушный библиотекарь, подавать мне тома, в которых, возможно, записана вся эта кровавая история.
Не дожидаясь ответа, не глядя на нее, Лев Александрович развернулся и пошел прочь, его тень, исполинская и призрачная, поползла по шершавой стене, сливаясь с другими тенями, населявшими этот мир. Ирина поняла: это не просьба и не сотрудничество. Это ультиматум. Условия капитуляции, которые Корсаков диктовал самому себе, впервые за три года допуская врага в свои тщательно охраняемые владения. Врага по имени Прошлое. И она, Ирина, была всего лишь ключом, отпирающим эту дверь.
Погружение в бездну
Час спустя Лев Корсаков переступал порог хранилища №7. Место было оцеплено стандартной желто-черной лентой с зловещей, уже ставшей клише надписью «Не входить». Лев Александрович прошел под ней, не пригнувшись, как призрак, не заметив ее существования, словно эта преграда была лишь для живых, а он существовал где-то на грани. Воздух внутри был холодным и мертвенно-неподвижным, с сладковатым, приторным привкусом тления и чего-то металлического, который не мог перебить даже едкий, удушливый запах хлорки, немощно висевший в пространстве. На полу, у стеллажа с шифром «Р-91», мелом был очерчен неестественный, скомканный силуэт. Поза эмбриона, кричащая о последней, отчаянной попытке спрятаться, свернуться, исчезнуть.
Корсаков поставил на пол свой потертый, видавший виды армейский рюкзак, отстегнул молнию с характерным, резким звуком. Действия его были медленными, выверенными, почти ритуальными, лишенными суеты. Он достал старенькую настольную лампу с зеленым, потускневшим от времени абажуром, подключил к длинному, скрученному в бухту удлинителю. Щелкнул выключателем. Резкий, контрастный, почти театральный круг света упал на меловой контур, превратив его в подобие древнего, нечитаемого знака, оставленного неизвестной, ушедшей цивилизацией.
Но Корсаков не смотрел на этот знак. Его взгляд, сканирующий и пристальный, словно луч лазера, скользил по пространству вокруг, выискивая невидимые глазу детали. По толстому, бархатному слою пыли на соседних стеллажах, искал следы нарушения, потертости, отпечатки чужого присутствия. По высоте полок, вычисляя линии обзора, углы, с которых можно было подойти незаметно. Он искал не улики в привычном, криминалистическом смысле – отпечатки, волокна, пятна. Он искал точку входа. Опорную площадку для сознания. Ту самую психологическую скважину, в которую можно было бы вставить отмычку своего восприятия. Место, откуда можно было начать немой, односторонний диалог с мертвецом.
Корсаков был дома. В своей стихии. В аду, который сам для себя выбрал.
Вещи Бориса Лебедева, аккуратно упакованные в прозрачные, бездушные доказательственные пакеты, лежали на импровизированном столе, сколоченном из двух ящиков: дорогой, мягкий кожаный портфель, щегольской кожаный ежедневник, массивная, тяжелая заграничная ручка, пачка свежих, еще пахнущих типографской краской распечаток.
Корсаков не касался их голыми руками. Лев Александрович достал из рюкзака пару тонких, почти невесомых хлопчатобумажных перчаток и медленно, тщательно натянул их на свои крупные, жилистые руки, на каждый палец отдельно. Это был не просто криминалистический протокол, а нечто большее – проведение сакральной границы. Ритуальная пелена, саван между его хрупким «я» и той чужой, навсегда умолкшей личностью, в чью шкуру, в чью память ему предстояло насильственно, болезненно вселиться.
Корсаков начал с портфеля. Аккуратно, с почти хирургической, бережной нежностью, извлек бумаги. Черновики с пометками на полях, хаотичные, нервные заметки на разноцветных стикерах, газетные вырезки, пожелтевшие от времени. Картина начала проступать, как проявляется снимок в красном свете фотолаборатории. Лебедев работал над книгой о забытом, почти мифическом поэте-диссиденте Василии Рябинине. «Голос, растерзанный временем» – рабочее название, пафосное и претенциозное, выдает определенный склад ума.
Корсаков уловил стиль, ухватил его, как улавливают запах. Язвительный, уверенный, с постоянной, сквозной нотой интеллектуального превосходства. Лебедев не восхищался Рябининым. Нет. Он его «открывал», присваивал, намереваясь выстроить из чужой трагедии, из чужой немой боли монумент собственной значимости, пьедестал для своей карьеры. Охотник за славой, раскапывающий могилу для личного триумфа, не задумываясь о кощунстве.
Затем Корсаков взял в руки незаконченную, оборванную на полуслове рукопись последней главы. Он медленно, словно неся груз, обошел меловой контур на полу и сел на единственный, грубо сколоченный стул, спиной к месту убийства, положив листы на колени, ощущая их шершавую фактуру даже через ткань перчаток. Корсаков выключил лампу.
Тьма поглотила его мгновенно, густая, тяжелая, абсолютная, как погружение в чернильные воды глубочайшей пещеры. Только так. Без зрительных раздражителей. Без шума. Без прошлого и будущего. Только чистое, незамутненное восприятие. Ловушка для призрака.
Корсаков начал дышать. Медленно. Глубоко. Намеренно. Метод «эмпатической реконструкции» не был ни магией, ни клиническим гипнозом. Это была тотальная, мучительная, выматывающая фокусировка, перераспределение внимания, болезненное, почти самоубийственное усилие по растворению собственного «я» в чужой памяти, в чужой жизни. Он представлял себя Борисом Лебедевым. Не жертвой, не трупом в меловом контуре, а живым, полным сил, амбиций и самоуверенности человеком, который шел по этому самому хранилищу три дня назад, не зная, что это его последний путь.
Вдох.
Кожа портфеля, гладкая, ухоженная и дорогая, под пальцами перчаток. Едва уловимый запах дорогой кожи, смешанный с терпким, навязчивым ароматом одеколона. Чувство легкого, снисходительного презрения к этому затхлому, пропахшему смертью и бумажной трухой миру. Уверенность, что он здесь временно, что он выше этого.
Выдох.
Уверенность, просачивающаяся в каждую клетку, наполняющая каждую жилку. Уверенность хищника, интеллектуального альфа-самца, находящегося на вершине своей пищевой цепи. Он – Борис Лебедев, критик, делающий репутации и ломающий карьеры одним росчерком пера. Лебедев приехал в эту глушь, в это царство пыли и молчания, за золотой жилой – за неизвестными, запретными стихами Рябинина, за его потаенными, сокровенными дневниками. За тем, что сделает его книгу разорвавшейся бомбой, а его самого – властителем дум, трибуном, открывателем истин.
Вдох.
Нетерпение. Легкая, раздражающая досада. Эти архивы – помойка, черт возьми, свалка истории, но именно на помойках, в самых темных углах, иногда находят настоящие, не огранённые, кровавые алмазы.
Выдох.
Он нашел нужную папку. Тот самый шифр «Р-91-Д». Д – «дневники». Пальцы, привыкшие стучать по клавиатуре, теперь листают пожелтевшие, хрупкие, готовые рассыпаться листы, испещренные убористым почерком. Внезапно – остановка. Найден ключевой документ. Не просто запись, а ключ, отпирающий потайную дверь в сознание поэта. То, что перевернет все устоявшееся понимание о Рябинине, выставит его в совершенно ином, шокирующем свете. Не торжество, нет. Спокойная, холодная, глубокая удовлетворенность охотника, нашедшего заветный, единственный след, трофей, ради которого и затевалась вся эта охота. Лебедев аккуратно, почти благоговейно, бережно кладет находку в свой портфель, этот ковчег его будущей славы. Он чувствует себя хозяином положения, демиургом, переписывающим историю, вершащим суд. Он не боится. Зачем бояться? Он здесь добытчик, триумфатор. Тени прошлого не могут причинить вред тому, кто держит их самые сокровенные скелеты в своих руках.
И тут… что-то меняется. Сдвигается. Ломается.
Корсаков-Лебедев замирает. Не физически, а внутренне.
Не от страха. Пока еще нет. От… удивления? Легкого, мгновенного раздражения? Чьи-то шаги? Нет. Тишина. Но тишина стала иной. Насыщенной. Целевой, сконцентрированной, как поток света сквозь линзы объектива. Воздух сгустился, стал вязким, как сироп, им стало трудно дышать. Кислорода стало меньше.
Корсаков почувствовал легкое, знакомое, как старая, незаживающая рана, головокружение, предвестник надвигающейся, сокрушительной мигрени. Его собственное «я», затравленное и израненное, пыталось вырваться из навязанной, чужой оболочки, вернуться в свою безопасную скорлупу. Он проигнорировал это, вдавил панику внутрь, заморозил ее. Он должен был уловить последнее, самое важное ощущение. Лебедев оборачивается? Видит кого-то? Нет. Он не видит угрозы, не распознает ее. В его выстроенном, комфортном мире нет места для грубой, физической угрозы. Возможно, он даже говорит. Что-то простое, снисходительное, привычное. Вроде: «А, это вы… Я как раз нашел кое-что интересное. Любопытнейшие детали».