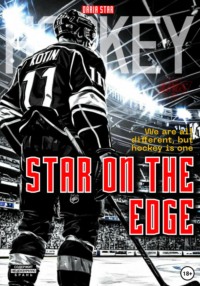Полная версия
Не сдавайся до рассвета
Она стоит. Не отступает. Не моргает. Только чуть приподнимает подбородок.
— А ты думаешь, что ты — Бог ринга? — спокойно бросает. Ледяное спокойствие. Хлыст, не голос. И эта ухмылка. Уверенная. Угрожающая. Как будто всё уже решила, просто ждёт, пока я догоню.
Подхожу. Близко. Чертовски близко. Горячий воздух между нами шипит, как масло в сковородке.
— Я не Бог, — шепчу ей в лицо. — Я — тот, кто его сверг.
Она дёргает бровью. Чуть. Микродвижение, но я его вижу. Зацепил.
— Миленькая байка. — Она скрещивает руки на груди, грудь поднимается в такт дыханию. — Только ты всё ещё думаешь, что это бой. А это — игра. И ты всего лишь фигура в ней. Пока ещё — пешка.
— Пешка? — ухмылка сама растёт на лице. Горит в челюстях, как заряд. — Посмотрим, кто кого сожрёт на этой доске. У меня, по крайней мере, есть зубы.
Она делает шаг. Прямо в меня. Прямо в грудь. Жестко. С вызовом. Контакт. И этот запах — сладкий, тёплый, с примесью корицы и чего-то мятного. Опасная смесь. Как если бы поцелуй и удар кулаком родились в одной пробирке. Бойцовский аромат. Не духи — предупреждение.
— Будь осторожен, принц. У некоторых королев — яды под ногтями. Игра только началась.
Мы — как два лезвия, которые вот-вот сойдутся в точке, и кто-то один порежется.
Хватаю её за руку — не сильно, но, чтобы почувствовала.
В ответ — взгляд. Прямой. Без страха.
Это уже не сцена. Не игра. Это что-то другое. Что-то живое, голое, дикое.
— Здесь люди работают. Ломают кости. Живут на боли. А ты — просто шоу.
— Ошибаешься, — шепчет она, почти касаясь губами. — Я не шоу. Я — то, что ты чувствуешь, но боишься признать.
Голос — будто нож, скользящий по коже. Медленно. Почти ласково.
— Что?
— Что хочешь меня.
Тишина.
Сердце пропускает удар. Или два. Или десять. В голове — обрывки мыслей, как разбитое стекло. Глаза не моргают. Лицо — камень. Только пальцы чуть сжимаются. Автоматически.
Она не ждёт ответа.
Подхватывает сумку. Поворачивается. Уходит мимо, как будто между нами ничего не было. Как будто не только что сунула руку прямо в мой огонь — и вышла без ожогов.
— Увидимся, — бросаю я ей в спину. Сухо. Без оглядки.
— Если только в аду, — отзывается. Спокойно. — Там, где нам обоим место.
— Кстати. Меня зовут Мэт.
— А я не спрашивала.
— Но теперь знаешь.
Она уходит. Медленно. Как дым после взрыва. Как грех, за который ещё не придумали наказания.
А я остаюсь. Один. С пустыми кулаками. С сердцем, как мешок битого стекла. С головой, в которой гремит не победа, а её голос.
А она…
Она всё ещё здесь.
В воздухе. В венах. Под кожей.
И я знаю — эта война только начинается.
И я уже проиграл. Но чёрт побери… я хочу играть.
Почему она всё ещё в моей голове?
⋆。˚✹˚。⋆
Сегодня был чертовски необычный день. Первый бой на ринге. Мой дебют в рестлинге. Чёрт подери, я чувствовал, как кровь пульсирует в висках под светом прожекторов, как зал ревёт, как рёв в венах от каждого удара, от каждого прыжка, от каждого взгляда через канаты. Это было похоже на сон на стероидах — быстрый, дерзкий, как мой спурт с каната на суплекс. Да, я ещё новичок, но сегодня я сделал первый шаг туда, где будет моё имя.
Навсегда.
Я войду в историю рестлинга — слышите? Я не просто так сюда пришёл. Это только начало. Запомните этот день.
Паркую мотоцикл на старом месте около забора. Слушаю, как двигатель захлёбывается тишиной, смотрю на дом. Глаза привыкли к сумеркам, но внутри уже темно. Захожу. Щелчок замка, и вот оно — привычное эхо: звон пустых бутылок, перекат по полу и… грохот. Громкий. Резкий. Знакомый до дрожи. Мне не нужно гадать, не нужно бояться, будто кто-то залез. Нет. Я знаю этот звук. Этот сценарий повторяется год за годом.
Гостиная как поле боя: пустые бутылки, полупустые, разбитые… страшные мягкие игрушки — когда-то милые мне и сестре, теперь — уродливо-молчаливые. Повсюду фотографии. На них она. Женщина с глазами, как у меня и Арии. Женщина, которой я никогда не знал. Та, которую он никогда не отпустил. Мать. Её звали Кира. Она умерла, когда мы с Арией родились. День, когда мы появились на свет, стал и днём, когда наш отец умер наполовину.
Но сегодня не день её смерти, а день её рождения и их венчания. В день её смерти. Моего, Арии, и отца дня рождения мы празднуем, так уж заведено. Она подарила нам жизнь, пожертвовала собой, хотя мы даже этого не просили. Она оставила мужа, пожертвовала собой. А нужно было ли это? Не проще было выжить и дать жизнь другим детям? Наверное, я никогда не пойму эту безусловную женскую любовь к её детям.
Вот он лежит на полу, окружённый пустыми бутылками, обнимает грязного плюшевого уродца, как будто в нём осталось хоть что-то живое, а глаза стеклянные. В этот день двадцать восьмое апреля, он всегда такой. Каждый грёбаный год. Он уезжает к её могиле, приносит цветы, сидит там — сколько может. Потом напивается. Возвращается сюда — и продолжает. Как будто пытается выжечь боль изнутри алкоголем.
В обычной жизни — он как стальной лом. Молчит, держится, тянет. Но раз в году он ломается. Раз в году он перестаёт быть отцом — и снова становится мужем.
Сломанным. Проклятым. Пьяным.
Когда мы были детьми, он запирался. Прятал это от нас. Отправлял нас к крестным. Но в четырнадцать... мы с Арией сказали «хватит». Мы остались. И с тех пор каждый год встречаем этот день дома. С ним. С привидениями прошлого.
— Отец, — сажусь рядом, шлёпаю по щекам. — Ты меня слышишь? — Он слышит. Конечно. Но в этом состоянии он может только мычать, сливая слова в комки боли и вина. Пьяный бред. И всё же я вижу в его глазах — он всё ещё там. Просто утонул. — Пошли. Пора в постель.
Поднимаю его. Он тяжёлый, как всё его прошлое. Может, даже больше. Но я справляюсь.
Громадина. Раньше таскал нас на плечах, теперь — я его.
Мы втаскиваемся по лестнице, заходим в его спальню и я бросаю его на кровать. Он лепечет что-то бессвязное — может, её имя, может, что-то другое. Может, вообще не с нами сейчас. Слёзы скатываются по его щекам, будто в последний раз. Но не последний. И засыпает. Поваленный. Промокший насквозь. Как каждый год.
Так проходит его день.
Так заканчивается мой вечер.
На ринге я был зверем. А дома — снова сыном.
Слишком взрослым для своих лет. Но всё ещё мальчиком, который хочет знать, какой живой голос у той, что дала ему жизнь. И всё ещё мужиком, который готов сломать кости, лишь бы не стать таким, как он.
Тихо закрываю дверь в спальню отца.
Щелчок замка звучит, как финальная нота чего-то слишком знакомого — как будто снова закрыл клетку с призраком. Тень от лампы тянется по стене, будто хочет дотянуться до меня, но я уже в коридоре. Ноги плетутся. Мысли — впереди тела. Сердце ещё стучит, будто я всё ещё на ринге. Но бой другой.
Дохожу до комнаты Арии. Не стучусь. Никогда не стучусь.
Открываю — темно.
Только экран её ноутбука подсвечивает всё пространство — синим, холодным светом, который делает её лицо почти фарфоровым.
Спокойная. Сосредоточенная. Без макияжа.
Красота, которую не надо доказывать. Веки чуть опущены, длинные ресницы отбрасывают тени на щёки. Пальцы — длинные, с идеальным маникюром — быстро цокают по клавишам. Она будто дирижёр собственной симфонии слов.
Даже не поворачивается. Только говорит:
— Опять забыл нормы приличия? — холодно, почти в полголоса. Мягкий укол. Бросок без усилия — как у профессионала.
— Не опять, а снова. Почему ты не была рядом с ним? Он был в сопли, Арюфета. — бурчу, валясь на её кровать без стыда и совести. Подушка пахнет её шампунем и кофе — она всегда пьёт по ночам. Заглядываю через плечо в ноутбук.
Щелчок. Локтем в грудь. Почти по-братски. Почти по-живому.
— Не твоё, — говорит она, прикрывая экран.
Новая статья. Всегда прячет, пока не отшлифует. Она у меня — журналистка, да не просто. Главред. В собственной чёртовой компании. Ну, почти собственной. 70/30 процентов на неё с крёстным. Он — деньгами, она — мозгами и когтями. Умница. А если кто полезет — перекусит шею. Без эмоций. Без сожаления.
Палец в рот — отгрызёт по самые яйца. Я не шучу, если вы не поняли.
— Я устала от этой картины, — выдыхает она. Тихо. Без театра. Просто... по-настоящему.
Моя Арюфета. Знаете, когда-то я не мог выговорить её имя, и так родилось это странное прозвище. «Арюфета» звучало как название далёкой планеты или астероида — загадочного, немного грозного, но притягательного. Для меня она всегда была чем-то вроде сказочного существа: могла спасти в трудную минуту, но и отчитать так, что мало не покажется. Она всегда была сильнее меня. И всё же даже у Арюфеты есть предел терпения. Особенно двадцать восьмого апреля — день, который она всегда ненавидела.
Смотрит на меня. В её глазах нет слёз. Уже давно нет. Там — усталость. Усталость смотреть, как отец гниёт по кускам один раз в год. Как мы — снова дети среди обломков взрослой жизни.
— Он тебя слышал? — спрашивает она, подперев щёку кулаком. Смотрит сквозь меня.
— Да. Где-то там, под всем этим… стеклянным. Он всё ещё есть.
— И ты всё ещё пытаешься его вытащить?
— Кто-то должен, — говорю. — Я не хочу, чтобы однажды пришлось вытаскивать и меня.
Она молчит. Лишь щёлкает тачпадом. Закрывает ноутбук.
И в этот момент в комнате становится особенно тихо. Даже воздух как будто сжался. Воняет этой самой правдой, которую никто не произнёс.
Мы с ней такие разные. Но в этом аду — мы два солдата. Сестрёнка и я. Она — журналист, я — зверь на ринге и дома. А вместе — единственное, что держит остатки нашей семьи от полного распада.
— Арюфета, — говорю я, глядя в потолок. — У нас с тобой тоже, наверное, стеклянные глаза, просто не всегда видно.
Она не отвечает. Только кивает.
И тишина между нами — это не холод. Это покой.
Глава 4
Ева
Сегодня я открыла глаза в день, который с трудом можно назвать утро. У него был этот отвратительный, мерзкий налёт — как будто календарь насмехался надо мной, снова выворачивая ту самую дату. Я её не люблю. И день этот не любит меня. У нас взаимная ненависть, проверенная годами.
Но что-то должно произойти. Сегодня.
Так говорят книги.
Так говорят сумасшедшие.
И я, как порядочная сумасшедшая, встаю с постели — как из гроба. Грациозно. С проклятиями.
Турка на плите — мой личный ритуальный костёр. Я ведьма на минималках: без метлы, но с кофеином. И вот он, этот запах... Ах, кофе. Единственное, что ещё умеет меня ласкать. Как любовник, который никогда не предаст. Пока не закончится пачка.
Наливаю себе в треснутую чашку, беру нелепый бутерброд, похожий на испуганного лабрадора, и иду на балкон. Мой балкон — мой Олимп. Сажусь на стул, бросаю ноги на перила, как будто я не одинокая женщина с зарытым горем, а герцогиня на тропическом острове.
И вот он, мой момент истины. Сигарета.
Первая затяжка — как пощёчина с любовью. Никотин разливается по венам, и я чувствую, как внутри просыпается та, кто умеет выживать.
Не смотрите так на меня.
Да, я раньше не курила. Была хорошей девочкой. Танцовщицей. Лёгкой, изящной, как мысль. Пока жизнь не показала мне свою изнанку — с грязью, горечью и траурной лентой на фотографии моей матери.
После её смерти я и начала.
Сигареты — это мой способ сказать «пошёл к чёрту» миру, не вытирая помаду.
Нет, не героин. Не алкоголь. Хоть какое-то чувство меры у меня осталось. Или остатки гордости. Или просто жмотство — зависимости нынче не из дешёвых.
И да, танцовщице не положено курить. Но знаете, что ещё танцовщице не положено?
Хоронить свою мать в девятнадцать.
Смотреть в зеркало и не узнавать собственные глаза.
Улыбаться в лицо клиентам, пока внутри всё горит.
Так что заткнитесь. И дайте мне докурить.
Пепел падает вниз — как кусочки меня, которые я сбрасываю с балкона каждое утро. Может, кто-то из прохожих потом подумает, что это лепестки сакуры. Пусть. Им тоже нужно врать себе, чтобы жить.
Мобильный вибрирует на коленях. Экран слепит — «Марис».
Ну конечно.
Кто ещё звонит в такую рань, кроме мужчин, которым ты должна деньги, тело или рабочую смену?
— Да? — отвечаю с лёгкой интонацией, будто меня застали за чем-то важным. Например, за поеданием розовых облаков.
— Ева, какие у тебя планы на сегодня?
Марис. Голос бархатный, как вино, которое слишком дорого, чтобы поить им свою боль.
Я закатываю глаза.
— Планы? Ну, так, стандартный набор: пережить утро, не задушить себя чашкой кофе, не вспоминать мать. А потом — как пойдёт.
Моя ирония, как броня. Пусть попробует проломить.
— Ты не собираешься сегодня в клуб?
— А ты не собираешься сегодня задать мне прямой вопрос?
Он смеётся. Этот смех — как лёд в виски. Холодный, но вкусный.
— Просто открой дверь, Ева.
— Что?
— Открой. Дверь.
Связь обрывается.
Я моргаю. Несколько раз. Потому что, знаете, есть вещи, к которым я готова: к похмелью, к отказу карточки, к непрошеным воспоминаниям.
Но не к сюрпризам.
Не к живым.
Осторожно поднимаюсь. У меня дурное предчувствие. Такое же, как перед первым танцем в новом зале — когда кажется, что под ногами провал.
Открываю дверь.
И сначала вижу только цветы.
Огромный букет. Настолько наглый и роскошный, что мне хочется плюнуть в вазу, прежде чем поставить его туда. Розы — алые, будто вырванные из чужого сердца. Лилии — надменные. Немного зелени — будто оправдание, что это не перебор.
А потом появляется он.
Марис.
На фоне утреннего света он выглядит как рекламный ролик чужого счастья. Чёрная рубашка, ворот расстёгнут, взгляд — как у человека, который знает, что играет в твоей пьесе важную роль, даже если ты его туда не прописывала.
— Ты выглядишь… — начинает он.
— Осторожно, — перебиваю. — У меня кофе в крови и сигаретный пепел в душе. Может произойти взрыв.
— Хотел сказать — живой.
— О, ну тогда ты слепой.
Он улыбается. Слишком мягко. Как будто у него в рукаве валерьянка и тихий вечер на двоих.
— Я подумал, что тебе будет сложно сегодня. Одинокой. И я... хотел быть рядом.
— Ты подумал? — говорю я, упираясь плечом в косяк. — Тебя переклинило на романтике или ты просто решил поиграть в спасателя?
— Ни то, ни другое, — спокойно. — Я решил, что ты не заслуживаешь провести этот день одной...
Вот и он — удар.
Без крика. Без театра. Просто точно в центр. В то место, где живут мои самые нежные, самые спрятанные боли.
Я не отвечаю.
Просто беру букет. Молча.
Ставлю в ведро. Потому что ваз нет. Цветы у меня не задерживаются. Как и мужчины.
Разворачиваюсь, ухожу вглубь квартиры, не говоря «проходи» — но он всё равно заходит.
Как ветер.
Как прошлое.
Он ходит, будто в своей квартире. Я ничего не говорю — потому что слова, как стеклянные бусы: если разомкнуть нить, рассыпятся, не соберёшь.
А я не хочу собирать. Хочу — чтобы он ушёл, но делаю кофе на двоих. Вот такая я: противоречивая до отвращения.
Он присаживается на подоконник, как на трон. Глядит на меня. Нагло, терпеливо, слишком долго.
— Так что у тебя за планы на сегодня? — спрашивает снова, будто первый раз не слышал. Или надеется на другую версию.
Я делаю глоток. Горячий, горький. Как моя правда.
— Поеду на пробы. — Я произношу это небрежно, как будто это обычная поездка в аптеку за пластырями для души. — А потом… как всегда. Возвращение домой, бутылка вина, меланхолия под пледом и мысли о саморазрушении в декоративной форме. Ты же знаешь — мой любимый жанр.
Он поднимает бровь.
— Ты серьёзно?
— Ну конечно. Я всегда серьёзна, когда говорю глупости. Это мой сценический образ. Саркастичная девушка на грани нервного срыва — зрителям нравится.
Он улыбается. Губы у него двигаются медленно, будто он смакует эмоции.
— Тогда давай я украду у тебя вечер. Ужин. Просто… чтобы ты не была одна.
— Не была одна? — повторяю, будто это слово на чужом языке. — Звучит как угроза.
— А ты всегда воспринимаешь заботу как нападение?
— Только если она без спроса. Или в красивой упаковке.
Он встаёт. Подходит ближе. Ближе, чем мне комфортно, но я не отступаю. Я — танцовщица, я знаю, как двигаться, даже если под ногами — ножи.
Флирт на кончиках пальцев. В воздухе — напряжение, будто кто-то натянул струну между нами, и она вибрирует от каждого взгляда.
Помните, я уверяла, что Марис — один из тех редких мужчин, которые не лезут к своим? Что держит дистанцию, не переходит черту, святой покровитель приличий в чёрном костюме? Ну так вот — забудьте. Сотрите это из памяти, как неудачную татуировку после расставания. Потому что, кажется, именно сейчас он как раз эту черту переступает. Медленно, красиво… как будто черта — это красная дорожка, а он — гость с приглашением.
— Знаешь, — говорит он тихо, — ты можешь сколько угодно прятаться за своей иронией, но я помню.
— Что именно? — я щурюсь, как кошка, перед прыжком. Или перед ударом.
— Сегодня пятое мая.
Секунда — пауза — щелчок.
Он знает.
Он помнит.
Я отворачиваюсь, будто это поможет. Нет. Не поможет. Пятого мая я родилась. И в этот день — каждый раз — во мне кто-то умирает.
— Ну надо же, — говорю. — Какой внимательный босс. Неужели ты держишь в телефоне напоминание «обнять проблемную танцовщицу в день её рождения»?
— У тебя был бы идеальный стендап. Если бы ты не была такой грустной.
Я смеюсь. Тихо, хрипло. Как человек, который забыл, как это делать искренне.
— А ты был бы идеальным манипулятором. Если бы не был таким красивым.
Флирт. Игра. Движение на лезвии.
Но внутри — не игра.
Внутри — усталость.
И тайная часть меня, которая хочет, чтобы сегодня не было как всегда. Хотя бы на вечер.
Тишина повисает в комнате, густая и колючая. Если бы она была цветом — была бы тёмно-бордовой, как вино, пролитое на белую рубашку.
Марис подходит ближе. Слишком медленно, чтобы я могла назвать это угрозой. Слишком уверенно, чтобы назвать это ничем.
Он кладёт руку на спинку моего стула, не касаясь, но достаточно, чтобы воздух между нами стал плотным, как сироп.
— Ты переходишь грань.
— Если я перехожу грань… — его голос тихий, обволакивающий, как запретный джаз в полуподвальном баре, — то это потому, что ты даёшь мне её размазать.
— Не льсти себе, — отзываюсь. — Я просто плохо черчу границы. Но это не значит, что они не настоящие.
Он смотрит на меня. Слишком долго.
А я смотрю на него. Слишком точно.
И в этой дуэли — не ясно, кто первый моргнёт.
— Ева, — наконец произносит он. — Я не тот, кто играет в грязные игры. Но иногда…
Он делает шаг ещё ближе.
— Иногда ты делаешь их слишком красивыми, чтобы не захотеть сыграть.
Вот и он — момент.
Никто не кричит. Никто не дышит.
И если бы кто-то в этот миг нарисовал нас — на картине была бы женщина, полная огня, с глазами, как трещины в стекле, и мужчина, стоящий слишком близко к пожару.
Я беру сигарету. Медленно. Нарушаю тишину зажигалкой.
Пускаю дым в потолок.
— Ещё одно такое слово, Марис, — говорю я, почти ласково, — и тебе придётся жениться на мне. А это, поверь, хуже увольнения.
Он смеётся. По-настоящему.
И, чёрт возьми, это не облегчает.
— Ужин? — переспрашиваю. — Что ж… Только если ты не принесёшь свечи и плейлист «медленные страдания под вино».
— Обещаю. Только нормальная еда и ты.
Живая.
— Тогда я согласна. Но не думай, что я переобулась в чувства. Это просто… тактика выживания.
Он кивает.
И в этот момент я понимаю: он знает больше, чем говорит. Он видит больше, чем я показываю.
Глава 5
Мэт
Трель телефона разрывает утреннюю тишину, как хук справа в висок.
Я подскакиваю с кровати, будто кто-то нажал сигнал тревоги — короткий, жёсткий, визжащий.
Айказ. Ну конечно.
— Какого хрена, Айк, ты звонишь в такую рань?! — рычу в трубку, голос ещё хриплый, злой, с привкусом ночных кошмаров.
— Дверь мне открой, милый, — сипло-сладко отвечает он, с этой своей фирменной гейской усмешкой, от которой хочется то ли ржать, то ли врезать. Иногда мы заходим слишком далеко с его приколами. Как тогда, на парах. Шутки про «медвежонка» и «мужские объятия», да так, что преподша взвыла и выгнала нас к чертям. Смех сквозь позор — как лоу-кик в солнечное сплетение.
— Жди, — бурчу, отключая вызов.
Поднимаюсь. Плавно, как рестлер после суплекса — медленно, но с намерением сломать кого-нибудь при следующем раунде.
Билли, породы аусси, поднимает голову с лежанки и зевает с тем видом, как будто я прервал священный обряд сна. Ему, как и мне, нахрен не сдалось просыпаться в шесть утра.
Шесть. Час мёртвых. Время, когда демоны ещё не спрятались.
Если он припёрся просто поболтать — выпну обратно, без референсов и прелюдий.
Не успеваю повернуть ручку, как Айк вваливается в квартиру, словно делает дабл-дропкик в дверь. Без «привет», без «можно войти».
— Конечно, чувак, проходи, не стесняйся, — бурчу сквозь сжатые зубы. Глаза уже прищурены. Не от света — от раздражения.
— Привет, мой сладкий, — щебечет он, склонившись к Билли. Псина недовольно морщится, а я чуть не прыскаю:
— Он тебе не сладкий, он грозный малый. Глянь на него — чистый топор с шерстью.
Айказ ржёт. Легко. Беззаботно. Он умеет делать утро невыносимым. И в этом тоже есть талант. Он шлёпается на мой потрёпанный диван, как будто у него здесь штаб. Растягивается в полный рост, закидывает ноги на подлокотник. Смотрит на меня с этим своим взглядом: как будто он знает что-то такое, от чего весь мир должен рухнуть.
И он не может молчать.
— Ты в курсе, что ты теперь звезда, грёбаный ты маньяк? — улыбается. И в его глазах — искры, прям как после удачного бэкфлипа на канвас.
Я молчу. Просто смотрю.
Он ждёт реакцию. Не получая — достаёт телефон.
— Вот, слушай. Твой первый бой. Видео — полмиллиона просмотров. Пол-МИЛЛИОНА, Мэт!
Он включает ролик — знакомые удары, я, в мраке зала, врываюсь с клоузлайном, как поезд. Толпа ревёт. Финальный приём. Чистый.
— Комменты… слушай. Это пушка.
Он начинает читать с выражением, как будто декламирует Шекспира в ММА-версии:
— «Он как зверь, вы видели его взгляд перед финалом? Это не игра!»
— «Он топчет ринг, как будто хочет разнести «СГР» и собрать заново под себя.»
— «Кто этот псих? Дайте два!»
Айк угорает. Я — нет.
Он перелистывает дальше. Девчачьи комменты — смайлики, сердечки, горячие вспышки и маниакальное:
— «Кто он? Откуда он? Почему я чувствую, что он разорвёт мне сердце и я скажу спасибо?»
— «Такого рестлинга я давно не видел.»
Я приподнимаю бровь. Айк в голос:
— Брат, ты просто порвал интернет. А знаешь, что самое крутое?
Он делает паузу, тянет момент, как перед прыжком с канатов.
— Ты поднял эту вашу федерацию «Сибирскую Грозу Реслинга». «СГР» теперь не просто название. Это лейбл. Бренд. И всё — после одного твоего выхода. Люди говорят. Пацаны спорят — кто ты? Откуда? Реальный боец или актёр с венами на шее? Те, кто узнали спрашивают, почему ушёл из бокса? Надолго ты в федерации? Девчонки пищат.