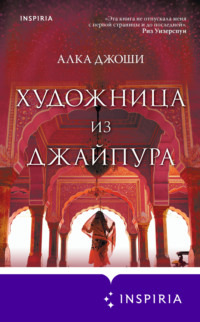Полная версия
Шесть дней в Бомбее
– Стоддард отличный игрок. Сделал меня в два счета, – добавил доктор Миштра. И улыбнулся, отчего ямочка на подбородке стала заметнее. – Хотя я почти уверен, что он жульничал, – заметил он нарочито громким шепотом.
Два его передних зуба слегка находили друг на друга, что придавало доктору застенчивый вид.
– Распространенное мнение. – Я вскинула бровь.
Доктор Мишра рассмеялся, тряхнув темными кудрями.
– Ветер не переменишь, сестра Фальстафф, остается лишь подстраивать под него паруса.
А я и не знала, что он в курсе, как меня зовут. Хирург и врач-регистратор нас вообще не различали и ко всем обращались просто «сестра».
– Подите вон, вы оба. – Устав от наших насмешек, доктор Стоддард замахал руками. Однако с его губ не сходила улыбка.
Доктор Мишра обернулся попрощаться с мистером Хассаном, и тот помахал ему книжкой. Затем доктор кивнул на ногу доктора Стоддарда
– Перелом хорошо заживает. Через неделю снимем гипс.
Доктор Стоддард потер руки и с коварной улыбкой посмотрел на меня:
– Прекрасно! У вас еще будет время попрактиковаться в нардах.
– И у вас тоже! – с улыбкой парировала я.
– А мне пора продолжать обход. – Доктор Мишра, по-прежнему глядя только на мою шапочку, пошел в мою сторону.
Я все еще стояла в дверях. Он попытался обойти меня, смущенно улыбаясь мозаичному полу. Я шагнула в сторону и снова оказалась у него на пути. Со стороны мы, наверно, напоминали пару неуклюжих танцоров. Наконец, доктору все же удалось проскользнуть мимо, и я почувствовала, что от его халата пахнет кардамоном и лаймом.
– О, добрый вечер, сестра Триверди, – сказал он кому-то в коридоре.
Триверди – фамилия Ребекки. Получалось, он не только мое имя запомнил. И я вовсе не была какой-то особенной.
Моя смена начиналась в шесть вечера и заканчивалась в четыре утра. Перед уходом я зашла к мисс Новак сделать укол морфина. Та проснулась от звука моих шагов.
– Мне пора. Но сначала я введу вам оставшееся лекарство.
Я протерла место инъекции ваткой с раствором антисептика. Мира же схватила меня за руку и закрыла глаза.
– Расскажите мне об отце. Я все думаю о своем.
Я на мгновение потеряла дар речи. Раньше пациенты никогда не задавали мне таких личных вопросов и я никому не рассказывала об отце, кроме Ребекки в тот раз, когда мы ужинали маминым хлебом и масляным пудингом.
Положив шприц в принесенный с собой эмалированный лоток, я снова протерла место укола.
Мира терпеливо ждала.
– Но зачем, мэм? – наконец выдавила я.
– А что, он такой отвратительный человек? – Она открыла глаза.
Я промолчала.
– Он причинил вам боль?
Я сжала зубы.
– Понимаю.
Мы смотрели друг на друга. Я все гадала, кто моргнет первым. Может, Мире и легко было говорить на личные темы, но это не значило, что она могла ждать того же от меня. И мне не нравилось, когда меня заставляли рассказывать о вещах, которые мы не обсуждали даже с мамой.
Я отошла и вписала в карточку, что сделала пациентке укол морфина.
– Вам что-нибудь еще нужно, мэм?
Покачав головой, Мира снова закрыла глаза.
– Мы еще не закончили, сестра Фальстафф.
Дыхание ее выровнялось.
– Тогда увидимся завтра вечером, мисс Новак.
* * *Вернувшись в кладовую, я сняла форму и переоделась в джемпер и юбку. Халат повесила в шкафчик до следующей смены. Вопрос Миры почему-то все не шел у меня из головы. В Калькутте все знали, что случилось с моим отцом. Он ушел от нас, когда мне было всего три года. И отправляясь с мамой к ее клиенткам, я всегда слышала, как они перешептываются. Отец прибыл в Индию из Британии, чтобы руководить индийскими солдатами, многие из которых сражались в британской армии во время Первой мировой войны. Здесь он и познакомился с мамой. Она работала портнихой, а он обратился к ней с просьбой зашить дыру на форме. Родилась я, потом мой брат, а когда мне исполнилось три, отец уехал обратно в Англию и больше не вернулся. Я плохо его помнила. Мать никогда о нем не заговаривала, а сама я не спрашивала. Через шесть месяцев после его отъезда нас осталось всего двое. Брат умер в свой второй день рождения. Почему Мира хотела заставить меня делиться болью брошенного ребенка? Зачем ей было знать, что я думаю о своем отце?
Я совсем ушла в свои мысли, но тут в кладовую вошла моя сменщица Рупа (в больницы только недавно стали брать на работу индианок). Она была жизнерадостной девушкой, всегда улыбалась, вечно кого-нибудь поддразнивала и лишь смеялась, когда ее дразнили в ответ. Врачи и санитары ее обожали.
– Как там старый чудак? – спросила она, надевая форму. – По-прежнему всех достает?
– Доктор Стоддард только тебя и ждет, надеется, ты скрасишь ему день, – рассмеялась я.
– Выиграла сегодня?
– Не-а. Но я все равно еще веду на десять пайс.
Мы со старым доктором всегда играли на мелочь.
– Смотри сразу все не трать! – Она хлопнула меня фартуком по руке и со смехом вышла из кладовой.
На душе у меня стало легче, и я спустилась в располагавшийся в задней части здания хозблок за велосипедом. Обычно мы с Индирой шли до ее дома пешком, а дальше я крутила педали. Трамваи в четыре утра не ходили. Матери не нравилось, что я возвращаюсь на рассвете, но за ночные смены платили больше. К тому же так рано на улицах почти не было людей. Сплошь тишина и умиротворение.
Пол в хозблоке был бетонный, а стены выкрашены серой краской. Пахло тут чем-то химическим, совсем не так, как на верхних этажах, но мне отчего-то нравилось. Я часто задумывалась, как сложилась бы моя жизнь, если бы я любила работать руками – мастерить вещи, а не ухаживать за людьми. Но мать каждую заработанную рупию откладывала, чтобы я могла выучиться на медсестру и после содержать нас обеих. Помнится, получив диплом, я взяла ее за руку и прижалась лбом к ее лбу – наш секретный жест, означающий, что теперь все будет хорошо. Я бы отдала что угодно, чтобы мама так не выбивалась из сил: не переживала, как нам заплатить за квартиру, не кормила меня, чтобы я лучше росла, бараниной (сама она мяса не ела никогда), не ломала голову, на что купить мне туфли для работы (ведь обувь, в отличие от формы, она сшить не могла). Мне хотелось дать ей жизнь, которую она заслуживала, вместо той, на которую ее обрекла судьба. Работа медсестры позволяла немного откладывать и постепенно приближать этот день.
В хозблоке работал парень по имени Мохан, он чистил оборудование, смазывал колеса каталок, топил печку и чинил все, что ломалось. Когда я вошла, он, сидя спиной к дверям, перекрашивал деревянный стол. Я немного понаблюдала за ним. Отчего-то меня успокаивало то, как методично он клал широкие мазки.
Затем я направилась в угол, где стоял велосипед. Мохан, услышав шаги, поднял глаза, выпрямился и криво мне улыбнулся. Ставя на пол какой-нибудь предмет мебели или прибор, он всегда смотрел на меня. Здоровался, искал способ завязать разговор. Но я старалась не болтать с ним: когда тебе двадцать три и ты не замужем (само по себе аномалия), приходится быть осторожной, чтобы не поползли слухи о неких несуществующих отношениях.
Однако добрый Мохан мне нравился. С ним я чувствовала себя в безопасности. Высокий, с густыми, росшими чуть не от самых бровей волосами, он тщательно брился перед каждой сменой, но сейчас его подбородок уже отливал синим – фолликулы определенно готовы были выстрелить новой порослью. Рубашка у Мохана была вся в пятнах масла, жира и краски – как раз ими и пахло в хозблоке.
Он тоже брал ночные смены, тоже, наверное, хотел побольше заработать. Впрочем, лично мне еще нравилось, что ночью спокойно, что в пустых коридорах что-то негромко гудит, что можно спокойно заниматься делами и никто тебе не помешает. Может, и Мохан поэтому любил ночные смены.
Он вытер запачканные краской руки тряпкой, с которой, кажется, не расставался уже много лет. Под ногтями у него виднелись черные полосы. Машинное масло не сходит, сколько ни оттирай руки. Отчасти именно из-за ногтей я не могла представить Мохана в своей постели. Меня в дрожь бросало при мысли, что эти пальцы с черной каймой прикоснутся к моим бедрам, и это была не радостная дрожь.
Я почти успела докатить велосипед до дверей, но тут Мохан, откашлявшись, заговорил.
– Завтра днем в «Регал» показывают «Дуния на мане». – Он с надеждой улыбнулся.
Я смущенно вспыхнула. Я еще вчера поняла, что он хочет меня пригласить, и поскорее бросилась прочь, сделав вид, что не понимаю, к чему он клонит. Но сейчас, когда нас разделяла всего пара футов, игнорировать незаданный вопрос стало невозможно. Я опустила глаза на руль. Велосипед отдала матери одна из клиенток в качестве платы за пошитое платье. Вообще-то платье стоило больше, чем подержанный велосипед. Впрочем, и мама заслуживала большего, чем квартирка в двести квадратных футов, расположенная так близко к «Виктории», конечной станции железной дороги, что иногда казалось, будто поезд сейчас въедет к нам в окно. Мохан не помог бы мне дать маме то, что я хотела. И мне не хотелось зря его обнадеживать.
Я провела ладонями по гладкому стальному рулю.
– Мы с мамой завтра идем на рынок выбирать ей новые ножницы.
Я украдкой покосилась на Мохана. Тот сидел, опустив плечи, потом посмотрел на зажатую в руке тряпку.
– Конечно. Я понимаю. – И, храбро улыбнувшись, добавил: – Сходим в следующий раз.
Кивнув, я вывела велосипед на крыльцо. Неприятно было отказывать такому хорошему, честному человеку. Сразу было видно, что, женившись, он станет именно тем мужем, который будет готов на все ради жены, детей и родителей. И в то же время я не сомневалась, что Мохан навсегда останется лишь слесарем. Никаких амбиций у него не было. Он считал, что и так уже достиг вершины карьеры – получил надежную должность в уважаемой больнице. И ту работу, которую никто у него не отнимет. Мне же хотелось большего. Я еще не понимала, какой жизни желаю и каким образом ее добьюсь, но точно знала, что не останусь медсестрой навсегда. Так что у нас с Моханом не могло быть общего будущего.
Индира уже ждала меня у входа. Мы зашагали в сторону дома, но она все больше молчала, погруженная в свои мысли.
Ночь стояла тихая – не гудели машины и трамваи, не цокали копытами лошади, продавцы фруктов не орали пронзительными голосами. На небе сиял месяц. Над недоеденным роти, воркуя, топтались голуби. Мы прошли мимо швейной мастерской, где двое работников трудились на станках, чтобы удовлетворить ненасытную армию бара сахиб. Магазин по соседству тоже работал. Хозяин расфасовывал зерно из большого джутового мешка в тканевые мешочки поменьше.
– Как бы я хотела быть как ты, Сона.
В сари Индира двигалась так же изящно, как и моя мать. Запахнувшись, она обхватила себя тонкими руками. Ранним утром, несмотря на влажность, было прохладнее всего. Днем же температура доходила до тридцати двух градусов в тени.
– Но почему?
До сих пор еще ни один человек не говорил, что завидует мне. Ни девочки в школе в Калькутте, ни одноклассники в монастырской школе, ни однокурсники в медучилище. Кто захотел бы поменяться местами с полукровкой? Слышать, как тебя обзывают чи-чи и черно-белой? Уворачиваться от летящих в тебя камней по дороге на работу? Я бы сама охотно поменялась местами с Индирой. Ее страна принимала такой, как есть. Все ее предки жили в Индии и молились в индуистских храмах. У нее была кожа цвета жареного миндаля, черные, блестящие на солнце волосы, а семья длинная, как месяц, и огромная, как год.
– Твоя мать не выдала тебя замуж в семнадцать, Сона. Тебе двадцать три, и ты можешь ходить куда хочешь. Соседи не шепчутся о том, где ты была и чем занимаются твои дети. Ты свободна.
– Это вряд ли, – фыркнула я.
Мама давно уже намекала, что мне пора замуж. Но пока желающих что-то не нашлось. В Калькутте мне нравились один терапевт и еще один преподаватель в медучилище, но первый был помолвлен, а второй женат.
– Почему ты все помогаешь мне с Бальбиром? – спросила Индира. – Тебе ведь от этого только неприятности.
Остановившись, я взглянула на подругу.
– Помнишь мой первый день в больнице? Ты подарила мне растение в горшочке. Сказала, на нем вырастут маленькие перчики чили, нужно высушить их, нанизать на нитку вместе с дольками лайма, и это принесет в наш новый дом удачу. Индира, это растение у меня до сих пор живо. Мама каждый год делает из перчиков новую гирлянду и вешает над входом. Она даже сырые перцы ест! – Я слегка встряхнула подругу за плечи, чтобы та улыбнулась. – Ты единственная поняла, как трудно нам было переехать так далеко от Калькутты. – Голос у меня сорвался. – Благодаря тебе я почувствовала, что Бомбей может стать нашим домом. И я всегда буду благодарна тебе за это.
Улыбнувшись, она погладила меня по плечу.
Впереди под слабо мерцавшим фонарем горячо переговаривались о чем-то молодые люди. Наш путь лежал мимо Бомбейского университета, студенты кучковались тут в любое время дня и ночи.
– Никеш, ты должен прийти! – убеждал парень в очках в проволочной оправе, вроде тех, что носил мистер Ганди. – Неужели тебе не надоело смотреть, как они ради собственной выгоды душат нашу текстильную промышленность, которую развивали твои и мои предки?
– Но какой смысл протестовать? Из-за протестов против налога на соль британцы посадили Ганди и еще пятьдесят тысяч индийцев.
– И только когда весь мир их осудил, слегка угомонились, – вмешался бородатый студент. – Но продолжают облагать налогами все, что мы производим. Где же прогресс?
Студент в очках улыбнулся:
– Прогресс есть, друзья мои. И вы все пойдете на митинг. А теперь – кто хочет выпить чаю? – Он помахал в воздухе термосом.
В Калькутте я видела то же самое. Среди сабджи-вала. Среди паан-вала. Терпеливый народ не хотел больше быть терпеливым. Долой английских паразитов! Но ведь одним из этих паразитов был мой отец, не так ли? Я осознавала всю иронию этой ситуации.
Когда студенты остались позади, я сказала:
– Индира, ты ведь знаешь, что всегда можешь пожить у нас, если будет нужно.
У нас с мамой был всего один на двоих чарпой, но я не сомневалась, что мы что-нибудь придумаем.
Она покачала головой.
– А дети? Их куда девать? Нет, Сона. Спасибо, что предложила. Я очень благодарна тебе за дружбу, но я не могу. Это моя судьба, Сона. Такова воля Бхагван.
Я понимала ее, как и других индианок, которым казалось, что такая жизнь им предначертана. Что они никак не могут изменить привычного порядка вещей. И их детям, как и дочерям Индиры, уготована та же участь. Из-за этого я чувствовала себя беспомощной и тоже начинала сомневаться, что они могут жить по-другому.
Возле дома Индиры мы попрощались. Над головами у нас висела афиша популярного фильма «Дживан Прабхат». Я знала сюжет: пара не может зачать ребенка, поэтому муж берет вторую жену. Интересно, Бальбир тоже захочет так поступить? Грустные мысли крутились в голове, пока я ехала домой на велосипеде.
* * *Входить во двор так рано следовало очень тихо. На нижнем этаже жил хозяин дома с семьей, а пара, что снимала квартиру напротив, через открытую площадку от нас, работала днем, нельзя было мешать им отдыхать. Поднимаясь по ступенькам, я слышала, как громогласно храпит хозяин дома. Из квартиры напротив на лестничную площадку неслись резкие вскрики и сладкие стоны, и я догадалась, что соседи трудятся над расширением семьи. На секунду я остановилась и прислушалась. От этих звуков в груди зародилось странное ощущение, вскоре опустившееся туда, где раз в месяц у меня кровоточило. Я никогда еще не была с мужчиной. Даже молодой клерк, как-то раз уговоривший меня пойти в кинотеатр «Эрос» и потом пытавшийся поцеловать во время сеанса, не пробудил внутри этого желания.
Я открыла дверь нашей маленькой квартирки, и мама вышла мне навстречу. Она всегда не ложилась и ждала меня с работы. Я много раз просила ее этого не делать, но она не слушала. Говорила, что дремлет вечером, после того как я ухожу. Но я не особо ей верила.
В руке мама сжимала рукав блузки, которую сейчас шила.
– Все хорошо?
На самом деле ее интересовало, не потеряла ли я работу – этого она боялась больше всего. В Калькутте меня уже один раз уволили, мы не могли позволить, чтобы такое случилось снова. Того, что мама зарабатывала, перешивая женские сальвар камизы, мужские шерстяные жилеты и школьную форму, едва хватало на еду. А на мою зарплату мы оплачивали квартиру, посуду, горшки, обувь, одежду, лекарства для матери, у которой было больное сердце, – на них, по счастью, мне делали скидку в больничной аптеке. Вообще-то, учитывая, как легко мы брали в аптеке любые медикаменты, я могла бы их просто стащить, но никогда этого не делала.
Я сняла свитер и повесила его на гвоздь за дверью.
– Да, мам, все хорошо. – Копируя маму, я помотала головой из стороны в сторону.
Ее это всегда смешило, а я любила, когда она смеялась. Морщинки разглаживались, щеки розовели. Мама вгляделась в мое лицо, чтобы убедиться, что я не лгу, а потом погладила меня по руке. Отложив недошитый рукав, она пошла к примусу: разогреть мне рис и бэйган карри и заварить свежий чай. Я села за стол, который служил и обеденным, и швейным для матери. На противоположном его конце стояла машинка и лежал брат-близнец того рукава, с которым мать меня встретила.
Я облокотилась на стол и огляделась вокруг. Квартира состояла всего из одной маленькой комнаты. Туалет мы делили с соседями по этажу. Возле стены стояла узкая кровать, на которой спали мы с матерью. Напротив – маленький столик с примусом, где мы готовили еду (иногда в ход шел и обеденный стол). Мои медицинские книги помещались в маленьком книжном шкафу, там же хранились «Большие надежды», «Бенгальские народные сказки», «Эмма», «Свами и ее друзья» Р. К. Наройяна, «Джейн Эйр» (которую подарила Ребекка), «Мидлмарч», мамины журналы кройки и шитья, журнал «Лайф», который мне дала почитать соседка из квартиры напротив, и стопка «Ридерз дайджест». Когда я, наслушавшись историй от пациентов вроде Миры, доктора Стоддарда или миссис Мехта, возвращалась в эту квартиру, на меня накатывало опустошение. Здесь пахло куркумой, машинным маслом, маминым сандаловым мылом и лекарствами. Запах был не неприятный, просто знакомый. Неужели вся моя жизнь будет такая же маленькая, такая ограниченная, гадала я. И меня тут же охватывал стыд. Ведь это была и мамина жизнь тоже. Как я могла принижать то, что она делала, чтобы прокормить нас, обеспечить крышу над головой и дать мне хорошо оплачиваемую профессию? И все же эта мысль не отпускала. Как сложилась бы моя жизнь, если бы мне удалось вырваться из этой клетки?
С мамой я этого не обсуждала: не хотелось, чтобы наше будущее нагоняло на нее такое же уныние, как на меня. Интуитивно я понимала, что, если уйду вперед, она останется на обочине. Кроме меня, у нее ничего не было, и перспектива моего отъезда повергла бы ее в отчаяние. Сначала ее покинул муж, потом сын, а теперь еще и дочурка? Я бы никогда так с ней не поступила.
Мама поставила передо мной ужин и чай и, прикоснувшись теплой рукой к моему холодному уху, заправила за него прядь волос. Потом села к столу напротив меня и снова взялась за шитье.
– Расскажи, как прошел день.
Ей нравилось слушать истории про пациентов. В частных больницах вроде той, где я работала, попадались больные из того экзотического мира, который мама никогда не видела. Ее же клиентками были местные женщины, чьи мужья продавали страховые полисы или служили в банке.
Я рассказала ей о Мире Новак. Мама не знала такой художницы, и я описала картины, которые видела в «Бомбей хроникл». Она стала расспрашивать, как Мира выглядит и о чем мы с ней говорили.
– Она спросила, как меня зовут, мам. Обычно никто этим не интересуется. По крайней мере, пациенты. Даже старшая сестра называет меня сестрой Фальстафф. А мы с ней уже два года знакомы!
Мама следила глазами за тем, как я подношу ко рту ложку, словно хотела удостовериться, что я в самом деле глотаю пищу. Я ела баклажанное карри, не слишком острое, как раз по моему вкусу. Мама же, в отличие от меня, всю еду приправляла острым чили.
– А как поживает доктор Стоддард? Ты сегодня его обыграла?
Покачав головой, я сунула в рот еще одну ложку риса с кардамоном.
– Он теперь хочет учредить в Индии службу экстренной помощи 999. Правда, даже если бы она у нас была, все равно непонятно, как он смог бы добраться до телефона со сломанной ногой.
Мама заливисто рассмеялась. Истории про доктора всегда ее веселили. Почему-то я не стала рассказывать, что доигрывал партию за меня доктор Мишра. И что он тоже знает, как меня зовут. Кое о чем в разговорах с мамой я умалчивала; хотелось иметь свои маленькие тайны, хотя бы ненадолго.
Вместо этого я рассказала маме о миссис Мехта, потом о мистере Хассане с его аппендицитом, о шестнадцатилетнем пареньке с тонзиллитом. И ей понравился мой «отчет о проделанной работе».
Потом мама отнесла опустевшую тарелку в раковину. Я знала, что посуду она помоет утром, чтобы соседей не разбудили гудящие трубы. Мама взяла красный перчик чили с того кустика, что мне подарила Индира. Глядя, как она откусывает от него, я представила, как у нее сейчас жжет в пищеводе, и у меня защипало в носу.
– Сона, мне нужно с тобой поговорить.
В груди что-то дернулось, будто я зацепилась сердцем, как свитером, за гвоздь.
Доев перчик, мама вытерла стол влажной салфеткой.
– Ко мне сегодня приходил отец Мохана.
– Мохана?
На секунду бросив тереть стол, мама вскинула голову и нахмурилась.
– Ну того молодого человека, который работает у вас в больнице.
Она повесила полотенце на край раковины.
– Мохан из хозблока?
Мама села напротив меня за швейную машинку – свою самую ценную вещь. Подобрав рукав, она просунула его под лапку и прижала ткань.
– Да, Сона, именно этот Мохан. Не изображай удивление. Ты сама говорила, что он по тебе вздыхает. – Мама дернула за колесо и начала строчить. – Его отец приходил просить твоей руки.
Комната закружилась. Значит, когда Мохан звал меня в кино, он уже думал – или надеялся, – что я стану частью его семьи. Раньше ведь у него не хватало смелости куда-то меня приглашать.
Кровь стучала в ушах, казалось, мозг сейчас взорвется.
– Нет, мам, – покачала головой я. – Определенно, нет.
Она заморгала.
– А что ты так скривилась, Сона? Он хороший парень. Ты сама так говорила. Прилично зарабатывает, добрый. Чего тебе еще?
Я в ужасе уставилась на нее.
– Чего мне еще? Например, того, чего хотела ты, когда встретила отца.
Мать застыла.
– Что это значит?
– Мама, я устала, – вздохнула я.
Об отце мы никогда не говорили, и начинать сейчас я не хотела.
Забыв недошитый рукав, мама снова села на стул.
– Я хочу знать, Сона.
Когда мама расстраивалась, она всегда терла место на груди чуть повыше сердца. Вот как сейчас.
– Я просто не хочу выходить за Мохана, вот и все. – Я встала и придвинула стул к столу. – Буду ложиться.
Я многое могла бы сказать. Что сама она не захотела выходить за парня, которого подыскали ей родители, так почему же я должна. Что саму ее не привлекали мужчины с черной каймой под ногтями, так почему же меня должны. Что если она сама выбрала себе мужа, почему у меня должно быть иначе? Но мама была хорошим человеком. И не заслуживала моей злости. Она полюбила мужчину, родила ему двоих детей, а он ее бросил. Конец истории.
Я взяла полотенце и зубную щетку и пошла в общую уборную, гадая, на кого я больше похожа, на мать или на отца. Если отца я ненавижу, значит ли это, что я ненавижу те свои черты, которые достались мне от него? Я стала изучать свое отражение в зеркале. Каштановые волосы все еще были собраны в узел. Я вытащила шпильки, и они рассыпались по плечам. Внезапно я впервые заметила, что линия роста волос у меня была прямая, а не полукруглая, – подарок матери. Опускавшиеся к вискам брови придавали лицу печальное выражение. Или разочарованное. Или опустошенное. Может быть, вот это во мне от отца? Я попробовала придать лицу другое выражение, округлила глаза – брови приподнялись, но так я стала похожа на замершее в испуге животное. Миндалевидную форму глаз я тоже унаследовала от матери. А цвет кожи, наверное, был от обоих родителей. За англичанку меня никогда бы не приняли, но из-за более светлой кожи и акцента иногда принимали за парса. Губы у меня были не тонкие и не пухлые. Средние – тоже, наверное, от отца. Я попыталась улыбнуться. Улыбка вышла кривая. Почему никто мне об этом не говорил? Это я уж точно не от мамы унаследовала.
Умывшись и почистив зубы, я вернулась в комнату. Поцеловала маму в нежную теплую щеку. Ей был всего сорок один год, но выглядела она старше. Я прижалась лбом к ее лбу.
– Мам, будут еще женихи. Мохан не единственный мужчина в мире.
Раньше мне никогда не делали предложения, так что никакой уверенности в будущих женихах не было, но мама, к счастью, этого не озвучила.