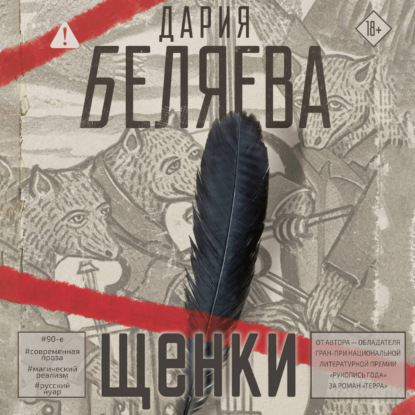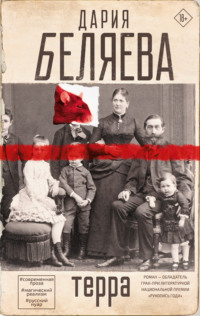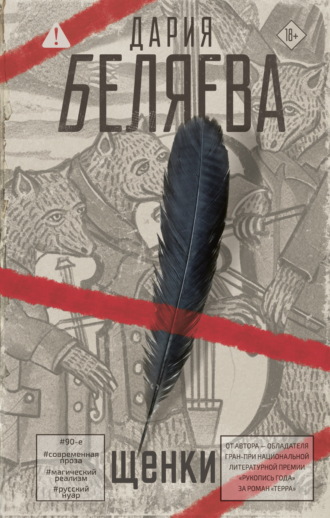
Полная версия
Щенки
Антон смотрел куда-то поверх Юркиной головы, словно бы спал с открытыми глазами, такое с ним бывало часто. Ну, я решил, пока первенец прикемарил мозгами, а последыш размышляет над результатами своих действий в этом мире – загляну в холодильник. Встал, прошелся – в этот момент понял, как долго мы сидим уже – затекло все к такой-то матери от сидения с моей-то матерью, хотелось подвигаться. Движение – это жизнь.
Над холодильником в пакете, как обычно, хлеб лежал, только плохой уже, черствый. Но на пожевать – сойдет, я не сильно привередливый.
Странно было так все хорошо помнить. Как сесть за гитару после долгого перерыва. Вспоминались вещи всякие. Больше не про нее, конечно.
Вспомнилось, как в последний раз тут были с Юркой. Давно еще, кстати, при Союзе, когда все было еще просто и прямо. Восемьдесят девятый год, конечно. Потом-то я с матерью уже не общался, и долгие-долгие годы, у нас ссора некрасивая произошла. Мать пьяная спала, громко храпела, а мы с Юркой пили, Антона не было. Юрка тогда еще херней не занимался, работал на каких-то кооператоров, которые джинсу вываривали и продавали втридорога.
Он меня спрашивал про Афган, уже и время прошло, как я вернулся, но Юрка не отставал. Вот ему было любопытно: каково оно. А теперь, странное дело, он взрослый, у него своя война в мирной Москве, мне не понять.
Курим, мать храпит, по радио красивые песни передают. А я не знаю, что ему сказать. Хотя так-то поболтать я любитель, чего не знаю, то придумаю, и меня не остановить.
А тут – как отрезало. Сложно это сформулировать, в двух словах не опишешь, а что в двух словах нельзя описать, то и на десять тысяч страниц не поместится – потому что нет строгой формы.
Долго думал, потом сказал:
– Ну, там есть простота, которая мне нравится. Это свои, я их могу любить или не очень любить, но я за них могу жизнь отдать, а это чужие, таких я на завтрак ем. Упрощение мира.
И вдруг наклонился я к нему и сказал:
– Я тебя всегда буду защищать. Потому что ты мой брат. Потому что ты свой. Даже если я буду во всем с тобой не согласен. Понял?
Он, кажется, испугался. Говорю же, робость эта его.
А я еще одну мысль за хвост поймал и потянул:
– Люди всегда люди, а на войне – они в два раза больше люди.
Юрка меня не понял. Ну, главное, что я сам себя понял.
Еще сказал:
– Лучше кино посмотри. Кино поражает воображение. Реальность – не поражает.
Сколько воды с тех пор утекло. А тогда на столе был куриный суп, кстати. Мать хреново готовила, это Юрка сварил. С курицей тогда было уже не очень, простые и неожиданные радости: навестить свою мать и обнаружить супчик в холодильнике. Мать я люблю не очень, но суп я люблю.
Я еще думал, откуда у нее такая знатная, сладкая, сочная курица – трахарь, что ли, очередной принес? Курица меня занимала. Откуда бы?
Ну, теперь не узнаю. Давай обратно двигать, к гробу. В общем, заглянул я в холодильник, а там одни яйца. Ну, думаю, хлеб есть черствый, яйца, яишенку, значит, сготовим. Живем!
Яиц было семь штук, я шесть из них взял – одно сиротливое осталось, но как-то мне неловко стало, что покойницу совсем объедаю. Подумал, оставлю тебе яичко, не голодай там, мать.
Ну я, бывало, голодал с тобою, да только не обидчивый я, вспылил легко, да и отошел тоже.
Подошел к плите, отодвинул Антона. Он так же всегда делал. Бывало в детстве сижу себе, а ему надо с полки чего достать, так он на меня наступает и тянется вверх. Как любой порядочный мент, Антон считал, что люди – это такие говорящие предметы. Впрочем, не обижался, когда и с ним соответственно.
– Твой грех будет, – сказал мне Антон.
– Грех был бы яйца оставлять, еду выкидывать, голодными сидеть. Кто вообще знает, что есть грех?
– Не философствуй. Это мерзко. Она мертвая лежит.
Но будто бы и не чувствовал он, что это мерзко, а только знал об этом, как бы откуда-то из книг.
Я без труда нашел сковородку – на своем месте, и масло – тоже на своем. Обернулся, глянул на гроб. Лежала она себе спокойно, хотя при жизни покойница не любила, когда у нее на кухне хозяйничали, пусть сама она и готовила хреново. Вдруг стало мне понятно, что и платье на ней знакомое, темно-зеленое, с жемчужными пуговицами – я помнил, как она в нем, когда я мелкий был, перед зеркалом стояла и губы красила – на свиданку.
Это ей Юрка вещи собирал. Юрка, последыш, пусть ее и не доглядывал, но путем ее последним наиболее озаботился. Может, любил чуть-чуть? Не знаю. Но платье славное было. Когда-то ей шло, а теперь уже и неважно, идет ли.
Руки на животе в замок сцеплены – поза для короткого дневного сна. Ну, у меня, во всяком случае.
Тогда опять пришло ко мне какое-то неверие из-за этого платья. Ну не может же быть так, чтоб она в нем была живая, а потом стала мертвая. Тысячу раз знаю, что может быть, а все равно странно оно. Простая жизнь, полутемная прихожая, зеркало на комоде, вонючая помада.
И простая смерть, гроб на столе, руки в замок, восковая желтизна кожи.
Прогрел сковороду, бросил шесть хлебцев, разбил шесть яиц на хлебцы. Я еду никогда не солю. Пускай каждый себе сам солит – это моя философия. Ну вот, стою с лопаткой (новой), держу сковороду (старую). Шипение, треск, и кухня наполняется совсем другим запахом, куда более привычным. Гляжу, а Антон носом повел – едва заметно. Голоден ты, сука.
Ну, естественно, жрать мы там, при ней, не стали. Вообще неправильно это – покойницу оставлять, но не до суеверий, когда в животе урчит. Сгрузил яишенку по тарелкам, раздал братьям, взял бутылку водки, и пошли мы в большую комнату.
Я там не был еще, годами не бывал и тем днем не сходил. С прихожей – сразу на кухню – гроб занести, а там так и сели.
Вот, значит, захожу, тарелки – на старый диван в цветулях. Смотрю – в углу елочка стоит. Из моего светлого детства. Елочка интеллигента Фомина – пластиковая, хрупкая, как его психика. И игрушки нашенские, а не говно китайское цветов кислотных. Нежные стекляшки. Ежики и собачки. И изощренно изрисованные глазурью шарики. Детство мое. Кажется, тронешь их – рассыпятся. Шарики эти старше меня лет этак на пять. А я, значится, шестьдесят восьмого года. Помню и коробку от них: там Буратино улыбается, уперев в желтую полосу длинный нос. Помню бечевку, что перехватывала коробку.
А эти проволочные петельки, на которые цеплялись ветхие ниточки.
Детальки из памяти. Красота. Искусство жизни.
Мне стало как-то странно, как будто долго уже сидишь в машине пьяным, но тут вдруг кто-то окно открыл, и сразу стало ветрено. Свежий ветер и страшный.
Тарелку свою на диван поставил, подошел к елочке, потрогал пластиковые иголки, стеклянных зверьков, шишки, так похожие на настоящие.
– А игрушки кому? – спросил я.
– Разделим, – сказал Антон.
– А елку тоже разделим?
– Елку выбросим, – ответил он. – Старая уже елка.
Я сказал:
– Хуй мы ее выбросим. Елка моя будет.
– Хочешь – бери.
Юрка сказал:
– И спасибо за ужин. Вкусно.
– Ешь давай, а говорил, что кусок в горло не влезет.
Я все не мог от елочки отвлечься. Красивая такая. Я так ее любил.
В общем, да, бутылка еще, я ее взял, отпил водки так, что глаза увлажнились, и елочка приятно расплылась в огоньки и краски. Потом мы сели ужинать. Вилки по тарелкам громко стучали, и мне опять все надоело. Слишком тихо.
Говорю им:
– Ну а что вообще завтра-то? Гости будут? Завтра ж второе только, там, небось, или не работает ничего, или очередь стоит.
– Я решил проблему, захоронят, – сказал Юрка. – Но стоило это бешеных денег, если хочешь знать. По-тихому сделаем, никаких гостей, да и приглашать некого.
– Можно было и подождать, изначально думали – после праздников, но Юрка решил, что лучше сразу, чтоб долго не лежала, – сказал Антон и без паузы добавил: – Жена моя будет.
– И моя девчонка, – сказал Юрка.
– Одинокая она баба в конце-то жизни стала, мать наша.
– Не без этого, – сказал Юрка. – А у тебя будут гости?
Он дернул уголком губ опять, то ли колкость, то ли, напротив, завинился он, что спросил – нетактично вроде бы.
Я засмеялся:
– Нет, потому что никто не в силах меня выносить, а я не люблю никого, кроме себя.
Антон смотрел в тарелку, я даже не думал, что он нас еще слушает. И тут вдруг он сказал:
– Жениться тебе надо, Витя. Иначе можно с ума сойти.
Яишенка, кстати, удалась, если что. И вот сидим мы в большой комнате, пялимся на елку. Тут мы жили, спали, когда были детьми. Что-то изменилось, что-то осталось прежним. Но я помнил еще, как пружинки скрипели на продавленном диване в цветулях.
Вдруг Антон указал длинным, бледным пальцем куда-то наверх.
– Видели?
– Что?
– Там плесень какая-то темная. Надо снимать. Я сниму потом. Сантехника старая, проводка ни к черту. Кому мы это будем продавать? Ремонт делать надо.
– Да ладно, – сказал я. – Юрка, пристрой квартиру под наркопритон. Если мы хотим, чтобы все осталось как прежде, в дни юности нашей – вот он, вот он – лучший вариант.
Но что-то горькие шуточки одна с другой не срастались – долгое молчание, теплые волны сентиментального отношения к детству. Какое б ни было – а оно мое. С моей елочкой, которую мы втроем наряжали, с моим способом яичницу готовить, которому меня научили, с вещичками, которые то и дело попадались теперь на глаза, а ведь я почти забыл о них. Думал, что забыл.
Оно и реальное, и сказочное.
Ну и главным образом – кладбище. В семьдесят восьмом году его открыли, вспомнил, Митинское-то. Не сразу появились все эти памятники, потом кресты, но вот я приехал, и это все уже так разрослось, что из окна видно. Метафора, блядь, взросления. Двадцать лет прошло, однако.
А на кухне гроб этот, и она в платье, и цвет волос ее настоящий хуй я когда узнаю уже.
Странные чувства. Не горе, не скорбь – с тем я знаком. А что-то глухое, как тоска после сна, который и вспоминается-то с трудом.
Мы отставили тарелки, выпили еще, молча. Каждый о своем думал. Антон все съел и хлебом желток вытер, я и тарелку вылизал, а Юрка, как всегда, не доел. Свой способ употреблять эту сложную жизнь.
Покурили, я вспомнил, как она курила – как она теперь не покурит.
Вдруг вскакиваю, говорю:
– Так, ребзя, где карточки-то? Вдруг есть такие, на которых цвет ее волос виден.
– А зачем тебе знать цвет ее волос? – спросил Антон.
– А тебе не интересно? Может, у нее цвет, как у меня. Или как у тебя? Или как у Юрки? А? Или, может, мы подкинутые все, приемные, аист нас принес, твою мать.
– Умерла моя мать. И твоя, кстати. Можно посерьезнее?
– Сколько ни тверди «халва», во рту слаще не станет.
– Ты к чему это вообще сказал?
Юрка вздохнул. Он часто так делал, когда мы с Антоном не ладили, ругались. Так нарочито громко, немного несчастно вздохнул.
– Ну хочет он фотки поглядеть – пусть глядит, – сказал Юрка. – Его дело.
– Спасибо.
– Да они же черно-белые, дебил, – сказал Антон.
– Ты кого дебилом назвал?
– Тебя.
Я подошел к шкафу, замер у двери. Антон сидел на диване и не оборачивался. Я сказал:
– Ты на меня хоть смотри, когда ведешь со мной беседу. У тебя уважение ко мне есть?
– Что еще скажешь?
– Я тебя спрашиваю, у тебя уважение ко мне есть?
Надо сказать, не то чтоб я так остро отреагировал, но мне хотелось, чтоб шумно было, живо, а не мертво. Чтоб прицепить эту братскую ссору, да так даже – ссорочку, к быстро несущемуся поезду моей жизни, как консервную банку: шумит, гремит. Чтоб Антон развлек себя как-нибудь, наконец.
– Ты всегда дебилом был, – сказал Антон. – Но дело твое я уважаю. Все ты правильно делал, пока в Заир не поехал.
Он встал, подошел ко мне. Повыше, но куда менее мощный. Мне даже хотелось подраться – как в старые добрые времена, но Антон-то теперь стал взрослый и серьезный, не по статусу ему. Так мы и стояли у шкафа, ругались. Я уже руку на холодной ручке в форме розочки держал, подумал, сейчас открою резко и как дам ему по морде.
Тут-то Юрка между нами встал и обоих оттолкнул.
– Сейчас я достану, я помню, где они.
И вот, значит, распахивает он дверцы, нас с Антоном слегка задев.
Я первым делом вверх глянул – коробка из-под сапогов с карточками на месте лежала, среди немногочисленных шапок, в том числе и детской моей шапочки из цигейки.
Потом я глянул вниз. Среди старых курток валялась в нашем шкафу мертвая девица. Совсем молодая, двадцати, наверное, лет. Светлые волосы ее разметались по плечам, розовые от крови, руки изгибались под неестественным углом, ребро продрало скромное платье на боку.
Сразу подумал, чего с ней такое приключилось – тяжелые механические повреждения. Машина, наверное.
Мы втроем сделали шаг назад, потом и я, и Антон посмотрели на Юрку. И Юрка сказал:
– Клянусь, ее там не было!
Никто из нас не испугался, хотя ситуация была, ну, нештатная.
– А ведь это по твоей теме, капитан, – сказал я Антону. Опер он, много занимался пропавшими без вести, или, как у них в отделе это называлось – проебашками. Пропавшие без вести, неопознанные трупы, сотни печальных историй. В основном, надо, конечно, свести дебет с кредитом, то есть, первых со вторыми. Но есть и те, кого никогда не находят. Очень мистическая тема, стремная. Ну, ты увидишь.
Вот девица лежала. Сколько ей было? Сутки – это максимум, скорее меньше. С живой уже не спутаешь, но будто бы и не совсем еще мертвая. На тоненькой границе.
Антон сказал:
– Дурацкая какая-то ситуация.
– Что бы ты порекомендовал?
Он помолчал, потом сказал:
– Не вызывать ментов.
– Слушайте, это мамка убила, – сказал Юрка. – С нее станется.
– Мама, – сказал Антон. – Уже три дня как мертвая.
– Ну а эта красавица сохранилась хорошо.
– Красавица?
Не прям красавица, но симпатичное лицо, жалко что мертвое.
В общем, понятно, что ничего непонятно. Вернулись на диван, закурили, глядим опять на елочку.
– Странно, – сказал вдруг Юрка. – Был один жмур, теперь два.
– Третий в комнате ее, – сказал я. – Поди поищи.
– Не смешно нихуя.
Антон сказал:
– Думать надо, что делать.
– Ну ты ж мент, ты и думай. Мое дело трупы клепать, а не атрибуировать.
– А Юркино дело тогда какое?
– Юрка, какое твое дело?
– Деньги зарабатывать, – ответил он.
Опять молчим. Потом говорю им:
– Вот и праздник! Раз-два-три: елочка, гори!
И засмеялся, значит. Они смотрят на меня, как на идиота.
– Ладно, – сказал я. – Квартиру мы с ней не продадим ни через полгода, ни вообще никогда. Что-то делать надо. Юрка, точно не твоя работа?
– Побойся Бога.
– Ты побойся Бога.
Он помолчал, потом добавил:
– Я могу ребят пригнать.
А Антон и говорит:
– Нет. Ее же кто-то ищет и ждет.
А я сигарету в тарелке затушил, встал и опять к шкафу, тянуло меня туда невыносимо.
– История загадочная, – сказал я. – Наверное, мистика.
– Никакой мистики, – сказал Антон. – Все просто объясняется в большинстве случаев. Есть цепочка событий, мы ее просто пока не знаем.
Подарок под елочку.
– Ладно, – сказал я. – Карточки-то посмотрим?
– Ебанулся? Не трогай там ничего.
Но я уже коробку беру, да только в этот-то самый момент полка с треском отошла. Невольно я ее удержал над головой девчонки. Та хоть и мертвая, да только не хотелось мне все равно, чтоб ее ударило. Бедной голове ее и без того досталось.
В общем, бам, полка оторвалась, держу ее, а девка глаза открыла и смотрит на меня, не мигая, светлыми, прозрачными почти глазами.
Ну тут уже даже я охуел.
– Она живая! – я крикнул. А братья мои тут как тут.
– Ты все сломал, как всегда, – сказал Антон. Другой бы на полуслове фразу оборвал, а этот окончил. Юрка, помню, перекрестился, да не той рукой – водилась за ним такая привычка, хотя Юрка был весьма религиозен, как многие из тех, кто про ад при жизни призадумался.
В общем, лупает она на нас глазками, сама испугалась. Ну, подумал, живая – ошибся. Странно это вышло – мы-то все мертвых видали, знаем, как оно, а все ж я ошибся. И на старуху бывает проруха. Вот, кстати, интересно тебе, что такое проруха? Озаботился я как-то вопросом этим, залез в словарик. Я почему-то думал, что проруха – это такая яма. Идет старуха многоопытная, а возьми, да и в яму упади – на знакомой-то дороге. Ничего не так – проруха – оплошность, ошибка.
Ошибочка вышла.
Ну, я обрадовался. Живая телочка, хоть и покоцанная. Я ее спасу и буду героем. Держу над ней полку, улыбаюсь.
Тут она как-то повернулась, и я увидел, что крови у нее в волосах много больше, чем я это сначала увидел, и в голове – дыра, сквозь которую липкий мозг видно, – кусочек примерно три на три сантиметра, отколотая скорлупка.
Ну, и с таким, бывает, живут, но глазками так не лупают обыкновенно.
– Не двигайся! – сказал ей я, значит, потому что есть такая точка равновесия – у человека, может, и полголовы нет, а он каким-то чудом еще жив, но только двинется – и отдаст коньки. Невольно коснулся ее руки, а рука – совсем холодная. Неживая.
Ну, ясно мне стало, что никакой прорухи не было.
Мертвая все-таки деваха.
Юрка руку, конечно, в карман сунул – сразу за волыну, во человек. Впрочем, пусть она девочка хрупкая, знавал я хрупких девочек куда меньше ее ростом и возрастом, которые людей, не моргнув глазом, убивали. Тут ведь главное – элемент неожиданности.
Антон стоял спокойно, без суеты сказал:
– Полку сними, чего ты ее держишь?
Ну, снял полку, тут шапки на нашу деваху мертвую повалились, но худшее – карточки рассыпались. И сидит она такая, сжавшись, а на ней фотки матери нашей, да наши же детские россыпью лежат.
Я сказал:
– Извиняй, милая.
Она молчала, только смотрела волчицей. Боялась нас, походу. Антон сказал:
– Вам медицинская помощь нужна. Скорую вызывать надо.
– Не надо ей уже скорую, – сказал я. – Ты ее пощупай.
Антон сделал еще шаг к девчонке, она сжалась вся в комочек, так мне ее жалко стало. Он прикоснулся к ее лбу, как прикасаются ко лбу ребенка.
– Какая холодная. Сейчас умрет, значит.
– Да уже мертвая она, – прошептал Юрка.
– Ну не мертвая, – сказал я. – Но не живая.
Полку я бросил на пол, девица маленькая наблюдала за нами, как будто мы тут были самые страшные. Ну вроде да – три незнакомых мужика. Но вроде нет – мы-то хоть срок свой на земле не отходили. Сложно тут было решить, кто кому страшнее.
– Не бойся, – сказал я. – Ты как тут оказалась? Говорить ты можешь?
– Дело в том, – сказал Антон. – Что это квартира нашей матери. Она тридцатого от водки умерла.
Девушка кивнула, спокойно, без боли и страха за свою бедную голову.
– Ты ее знаешь? – спросил Юрка. – Катерина Ворожейкина.
Девушка снова кивнула. Волосы у нее были длинные, нежно-светлые, а глаза – такие огромные. Маленькое привидение.
Я сказал:
– Ясно, понятно, тогда, может, и мать живая?
Пошел на кухню, там гроб стоит, мать лежит, все как полагается – без лишних выебонов. Я наклонился над ней и говорю:
– Что, и ты жива, моя старушка?
Не такая уж старушка, ушла то ли на пятидесятом, то ли на сорок девятом году жизни.
Она молчит, рот-то зашили ей. Не шевелится. Мертвая. Только полоска под ресницами блестит.
– Смотришь? – говорю я. – Ну смотри, смотри.
– Витя, не сходи с ума, – то был Юрки голос. Они тоже пришли поглядеть – бред бредом, но раз одно возможно, так и другое быть может.
– Притворяется, – сказал я.
– Бред, – сказал Антон.
Вернулись в комнату, а девица наша дверь в шкаф за собой закрыла. Ну, я подумал: может, то причудилось? Да только шапка моя, из цигейки сделанная, на полу валялась. И карточки рассыпанные.
Антон распахивает дверь, а она опять сидит там. Ну, подумал я, ужас, конечно, но не ужас-ужас.
И я спросил:
– Ты тут живешь?
Она кивнула. Объяснений, как ты понимаешь, не последовало. Вру я, думаешь? Ни разу. Да если б все это со мной не случилось, сам бы я никогда не поверил.
– Ну извиняй, – сказал я. – Квартиру мы продавать будем. Меня, кстати, Витя зовут.
Юрка тоже представился.
– Юрий.
– Хуюрий, – сказал я. – Юрка – это брат мой малой. Вон старшой стоит – Антон. Он милиционер, кстати, можешь ему доверять. Тебя как звать?
Молчит, минуту молчит, две молчит. Ну, потерял я надежду на то, что запоет птичка. Антон сказал:
– В скорую сначала, а дальше посмотрим. Может, заговорит, скажет, может, нет.
– Ты идиот? – спросил я. – Дебил ты конченный, ее же на эксперименты отдадут. Будут резать наживую, как кыштымского карлика.
– Он был мертвый, – сказал Юрка. – И он просто выкидыш.
– Как и ты, – сказал я. – Но ты заслуживаешь лучшего. И эта деваха тоже. Посмотри на нее – глаза в пол-лица, да она тебя больше боится, чем ты ее. Нет, мы ее никуда не сдадим.
– Ну, – сказал Юрка. – И куда она пойдет?
– У тебя трешка, – сказал я.
– Анжела не поймет! Да я и сам не очень понимаю.
– Антон, помогай.
– Нет, – сказал Антон. – Логичнее всего, если ее заберешь ты. Ты один живешь, раз твой батя в дурке опять.
Я подумал, подумал, да и говорю:
– Базара ноль, заберу. Хорошая баба, а у меня бабы нет. Будет меня развлекать задушевными разговорами.
Тут-то девица и издала свой первый звук. Вообще странные она звуки издавала. Что-то вроде писка новорожденного щенка, ритмично повторенного много раз.
– Ну или вот этим вот, – сказал я.
– И что с ней вообще делать?
– В хозяйстве все сгодится, даже триппер, – сказал я. – Народная мудрость. Все, решено, малыш, я заберу тебя домой.
Она запищала громче, я сказал:
– Да не парься ты. Смотри, какое у меня лицо доброе. Я еще и готовлю хорошо. Везуха тебе!
Мне хотелось ее рассмешить, но я ее, скорее, пугал. Антон так и сказал:
– Она тебя боится, отойди.
Он сел перед ней на корточки и заговорил медленно, как с маленьким ребенком.
– Ты осознаешь, что Катерина Ворожейкина умерла?
Она кивнула.
– Ты ее убила?
Она покачала головой и снова принялась издавать те испуганные звуки.
Тут уж я влез, спросил:
– Жрать ты хочешь? Юрец там жратву оставил, сейчас метнусь кабанчиком. Ожидай! Вот узнаешь зато, как я готовлю.
Принес тарелку, вилку облизал и девке протянул. Она так за нее схватилась, что я понял – будет использовать как оружие. И сказал:
– Не парься, я сам тебя покормлю.
Ну да не вышло ничего. Не ела она. Ну, в принципе, оно логично, но все равно – девчонка такая тощая была – покормить хотелось. Покрутил перед ней хлеб в яишенке, понюхать дал – ни в какую. А Антон все свое гнет:
– Наша мать удерживала тебя силой?
Кивок.
– Боишься ее?
Снова кивок, легчайший.
– Ты можешь ходить?
Опять кивнула. А я стал думать, как ее везти?
– Шапку мамкину возьмем, вот эту вот, чтоб голову твою закрывала, – сказал я. – В пальто ее, может, ты утонешь. Ты малюська совсем!
Юрка сказал:
– Осторожнее ты. Она может быть опасной.
– У тебя все опасные. Люди – сволочи. Юрец – параноик.
– Я серьезно. Она, блядь, мертвая.
– Ну и что же тут криминального?
Антон посмотрел на меня, как на идиота.
– Все от начала до конца. Убийство, похищение.
– А это таки похищение или осквернение останков?
– Смешно как, ну охуеть просто.
– Ну что теперь, плакать что ли? Помочь надо человеку. Документы ей сделай, Юр. Антон, вот ты говорил, мне жениться надо!
Тут уж совсем он на меня раздражился, так сильно, что даже брови вскинул – а это простое мимическое изменение и было обыкновенно единственным показателем Антоновой злости.
– Рот свой закрой.
– Ну давай еще подеремся при даме!
– Ты только пугаешь ее. Будешь продолжать в том же духе, и я решу, что лучше ей будет на опытах.
Тут он повернулся к ней и, не меняя интонации, продолжил:
– Тебе не надо бояться нас. Мы тебя не обидим.
Я сказал:
– Извини, малышка, просто я страшно одинок!
Юрка сказал:
– Осторожней с ней, правда. Вы не знаете, что у нее в голове.
– Успокойся, – сказал Антон. – Она выглядит уязвимой.
– Тем удобней. Может, она хочет отомстить.
Антон спросил ее:
– Ты хочешь отомстить?
Она покачала головой.
– Ладно, – сказал Юрка. – Нам бы с матерью сидеть.
– Не то, глядишь, тоже встанет.
– У тебя идея-фикс.
– Я переживаю, что она не умерла. А ты переживаешь? Столько бабла проеб.
– Прекрати!
– Правда, прекрати, – сказал Антон. – Не до твоих концертов.
– Ты с Юркой всегда добрей, чем со мной.
– Он меня не раздражает.
– А я, значит, раздражаю?
– Ты еще и специально это делаешь.
Тут я заметил, что наша дама наблюдает, слушает внимательно, и даже следит за нашей перепалкой, как за теннисным матчем – глазки туда-сюда, туда-сюда без видимого дискомфорта от обнаженных мозгов.