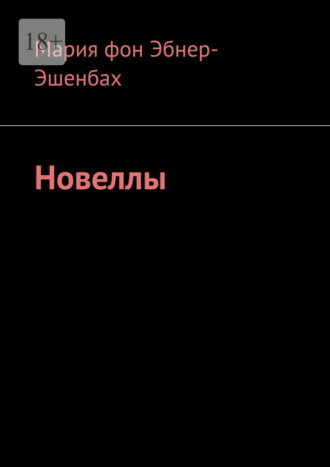
Полная версия
Новеллы

Новеллы
Мария фон Эбнер-Эшенбах
Переводчик Ирина Геворковна Назарова
© Мария фон Эбнер-Эшенбах, 2025
© Ирина Геворковна Назарова, перевод, 2025
ISBN 978-5-0068-6799-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Бароны фон Гемперляйн
1
Род Гемперляйн – знатный и древний; его судьба тесно переплетена с судьбой родины. Он не раз процветал, но и не раз впадал в нищету и бедствия. Сам род нес главную вину за стремительные перемены, которым подвергалась его звезда. Природа никогда не создавала терпеливых Гемперляйнов, никогда не было таких, которые не могли бы по праву претендовать на звание «задиристых». Эта мощная семейная черта была свойственна всем. С другой стороны, не было более разительных контрастов, чем те, в которых различные поколения Гемперляйнов соотносились друг с другом в своих политических убеждениях.
В то время как одни проводили жизнь, доказывая свою преданность наследному правителю с мечом в руке, скрепляя ее кровью, другие становились лидерами восстаний и погибали как герои за своё дело, как враги власть имущих и как яростные защитники любого угнетения.
Верные власти Гемперляйны были удостоены почестей и наделены значительными землями в награду за свою ревностную службу; мятежники объявлялись вне закона и лишались имущества в наказание за не менее ревностное неповиновение. Таким образом, этот древний род, в отличие от многих других, не обладал родовым поместьем, передававшимся из поколения в поколение с незапамятных времен.
В конце XVIII века жил барон Петер фон Гемперляйн, первый из своего воинственного рода, который будучи государственным чиновником, в последние годы жизни приобрел прекрасное поместье в одной из самых плодородных земель Австрии. Там, в глубокой старости, он и закончил свою жизнь в мире с Богом и людьми. Он оставил после себя двух сыновей – баронов Фридриха и Людвига.
В этих двух последних отпрысках древняя натура Гемперляйнов, не свойственная их отцу, словно возродилась. Она вновь, и поистине, чего никогда прежде не случалось в один и тот же человеческий век, произвела на свет сразу два типа рода: феодальный и радикальный Гемперляйнский. Фридрих – старший, следуя своим склонностям, обучался военному искусству в Военной академии в Винер-Нойштадте. Людвиг поступил в Гёттингенский университет в восемнадцать лет и вернулся домой в двадцать два года, с великолепным шрамом на лице и идеалом мировой республики в сердце. Братьям потребовалось ровно пятнадцать лет упорной борьбы, ведомой с силой и смелостью, чтобы осознать, что им больше нечего делать в этом мире, что время идеалов Фридриха уже прошло, а время Людвига ещё не наступило. Первый сложил меч, устав служить монарху, который хотел жить в гармонии со своим народом; второй с негодованием отвернулся от своего народа, который охотно и с радостью подчинился гнету их власти. В то же время Фридрих и Людвиг вступили во владение своим поместьем Властовиц и с любовью и энтузиазмом посвятили себя его обустройству. Хотя они и отличались друг от друга, как «да» и «нет», тем не менее, они сходились в одном важном вопросе, который объединял их: в невыразимой привязанности, которую они испытывали к своей сельской обители. Ни один, даже самый ласковый отец, никогда не произносил имя своей единственной дочери более нежным тоном, чем братья имя «Властовиц».
Властовиц был для них воплощением всего доброго и прекрасного. Для Властовиц никакая жертва не была слишком велика, никакая похвала не была исчерпывающей. «Мой Властовиц», – говорил каждый из них, и каждый из них возненавидел бы другого, если бы не сказал этого должным тоном. Вскоре после прибытия в поместье братья решили разделить отцовское наследство на две равные половины. Замок и прилегающие к нему постройки должны были остаться во владении Фридриха, который взамен обязался построить для Людвига бревенчатый дом в центре своего поместья, в котором тот намеревался жить и умереть во главе семьи, которую он собирался создать.
Раздел имущества обсуждался много раз и довольно горячо, но как он был реализован – хо-хо! Вот о чём стоило подумать. Принимаешь такое решение, а потом с радостью откладываешь его исполнение из года в год. Сколько земли, сколько футов, какой кусок любимой земли добровольно отдаст кто-то из братьев? Граница, которая разделила бы поместье на моё и твоё, в целом уникальное и совершенное, на две несовершенные половины, пронзила бы сердце каждого из них. Тем не менее, граница между Верхним и Нижним Властовиц давно была зафиксирована в каталоге, план бревенчатого дома Людвига надёжно лежал в архиве, и как только это бы случилось… но мы не будем предвосхищать неизбежную катастрофу этой подлинной семейной истории.
Жизнь баронов в сельской местности была чрезвычайно размеренной. Они покидали замок рано утром и вместе отправлялись в поля летом и в лес зимой. Однако они редко возвращались домой вместе. Обычно Фридрих приезжал первым, румяный, с блестящими глазами, проезжая домой шагом по каштановой аллее, обращенной на север. Его бывший личный слуга, а ныне общий, Антон Шмидт, выполнял неизменный приказ: «Подавай завтрак!» и добавлял с гневной ноткой: «Для меня одного!»
Антон подходил к кухонной двери, ждал немного, а затем командовал женщинам у плиты: «Завтрак для господ!» Это все происходило в тот момент, когда Людвиг, на взмыленном и потном жеребце, галопом въезжал через южные ворота во двор замка. Его узкое, изящное лицо было жёлтым, как колос пшеницы, под праздник Петра и Павла, высокий, задумчивый лоб мыслителя был омрачен. Он входил в столовую осанисто и важно. Там уже сидел Фридрих, с головой погруженный в чтение «Венской газеты» и не замечавший появление брата. Перед ним была газета «Аугсбургер Альгемайне». Он держал её перед собой левой рукой, а правой наливал в чашку чай. Они оба жадно читали, торопливо завтракали, а затем наслаждались курением турецкого табака. Братья сидели друг напротив друга в креслах с жёсткими спинками, с газетами перед глазами, окутанные с головы до ног густыми клубами дыма, из которых время от времени доносились проклятия или гневные возгласы – предвестники надвигающейся бури. Внезапно то тут, то там раздавался крик: «Ох, ну какие же они ослы!». Начинались политические дебаты. Обычно они были бурными и заканчивались примерно через четверть часа взаимным: «Чёрт бы их всех побрал!» Но бывали дни, когда особенно задиристое настроение Людвига вносило разнообразие в происходящее. Он произносил речи, настолько язвительные и оскорбительные, что даже брата от этого передергивало. Открытое, обычно дружелюбное лицо Фридриха застывало, губы кривились в непримиримой злобе; казалось, каждый волосок на усах вставал дыбом. Он хватал шляпу, подзывал свою короткошерстную рыжую охотничью собаку и молча выходил из комнаты. Его широкая спина и мощные плечи были слегка сутулыми, словно он нес тяжелую ношу.
Людвиг замечал это, но лишь мельком смотрел ему вслед, бормотал несколько неразборчивых слов и дочитывал газету ровно с тем вниманием, на которое способен человек, почти потерявший контроль над своими мыслями. Вскоре, однако, он вставал и начинал расхаживать по комнате гулкими твердыми шагами. Выражение его лица становилось всё мрачнее. Он запрокидывал голову, покусывал нижнюю губу; он всё смелее выпрямлял свою стройную спину. Чего же он жаждал, как не тишины и покоя! Здесь он надеялся их найти. Да, чистого покоя, чистого умиротворения! Чтобы обрести это, не нужно удаляться в глушь, не нужно погружаться в отупляющее уединение. Но если это не так, если ты прав, о Сенека! Если жизнь – это борьба и её непременно нужно вести, то будь достойным воином на поле битвы! Или пусть это будет мир, где человеку, благословлённому или проклятому судьбой, с незаурядными интеллектуальными способностями найдется достойное место…
Людвиг медленно спускался по лестнице. Его лохматый, вечно ворчливый пинчер с лаем следовал за ним.
Барон останавливался у ворот и снова оглядывал окрестности. Зелёные холмы, плавными волнистыми линиями окаймлявшие горизонт, заметно ограничивая его, словно предупреждали: не загадывай слишком высокие цели! То, что мы охватываем, – это тоже мир, пусть и тихий, но ваш – берегите его!
У подножия косогора располагалась уютная ферма, где находилась гордость поместья Властовиц, элитные стада мериносных овец породы Негретти. Она возвышалась, словно небольшой замок, стильная и блестящая, среди величественных тополей. Пологий склон соседнего холма, всего тридцать лет назад бесплодный, теперь превратился во фруктовый сад. Спасибо доброму отцу, который посадил его! Не для себя, конечно; он больше не будет отдыхать в его тени, не будет наслаждаться его плодами! Он посадил его для сыновей, о которых он всегда думал и которых так редко видел, для сыновей, которые преследовали свои амбициозные цели вдали от него и искали – пусть и тщетно – вечного благополучия, вечного счастья в своей насыщенной жизни. Теперь там росли мощные грушевые деревья и яблони, и сливы широко раскинули вокруг них свои ветви, а стройные, изящные вишни! – ах, какие плоды они принесли за последние годы! Крупные, как орехи, и сочные, как виноград. Да, вишни во Властовиц были не просто лакомством для детей!
А поля вокруг – море зелени весной, море золота летом, а осенью – ещё большая услада для хозяйского глаза: новые обещания на будущее после сбора урожая. Да, хороша земля во Властовиц! Вскопанная, вспаханная, укатанная, мелкая, как самая ухоженная клумба в цветнике, ароматная, как испанский ладан… До чего приятно пахла эта земля! Взгляд Людвига упивался всем её великолепием, и морщины на лбу разглаживались, и волнение в душе стихало. Ещё одна короткая борьба, ещё одна попытка сдержать гнев и негодование, грозившие вырваться, – и всё кончено: «Где мой брат?» – спрашивал он первого встречного и быстро обдумывал полученные сведения.
В два часа дня господа, вернувшись с поля, конечно, ссорясь, но оставаясь вместе, садились обедать. После обеда они принимались дрессировать собак и лошадей, осматривали имение или его часть и обсуждали с управляющим Курцмихелем планы на следующий день. Дневные дебаты, которые велись на религиозные, политические и социальные темы, завершались, как всегда, ожесточенным спором, который велся с величайшим упорством. В крайнем возбуждении, поклявшись друг другу в вечном противостоянии, братья отправлялись спать.
Таков, в общем и целом, был образ жизни баронов фон Гемперляйн, отличавшийся переменами, связанными со сменой времён года, охотой и визитами к соседям. Поверхностному наблюдателю он мог бы показаться не слишком привлекательным, но те, кто вникал в ситуацию глубже, признавали, что в нём были и приятные стороны. Самым приятным было высокое уважение, которым пользовались братья в своем окружении. Даже, если к этому уважению примешивалась изрядная доля страха, это не умаляло его ценности. Трудно было решить, кто из двух баронов был строже к своим слугам. Они требовали многого, но никогда не допускали несправедливости; они часто были безжалостно суровы, но уважали людей даже за самые незначительные вещи. «Потому что я стою выше бедняги, моего ближнего, и должен уважать его как своего подзащитного», – говорил Фридрих.
«Потому что я ему равен», – говорил Людвиг, – «и даже в его искажённом облике я нахожу свои собственные черты».
«Ты плут!» – кричал Фридрих закоренелому грешнику. – «Разве ты не знаешь, что повелевает закон? Разве ты не слушал проповедь священника? Погоди-ка, жандармы тебя схватят, а там, куда тебя упекут – ад!»
Людвиг же, напротив, увещевал: «Когда же вы, наконец, научитесь дисциплине? Когда же вам, глупцам, надоест платить людям, которые за вами следят, вас сажают в тюрьму, а иногда даже казнят? Управляйте собой, ослы, и тогда сэкономите все деньги, которые вам сейчас платит правительство».
Такие убедительные заявления не прошли даром, и гораздо больший эффект им приписывали бароны, которые, несмотря на пережитые разочарования, считали всё, чего они страстно желали, наиболее вероятным исходом. Таким образом, они наслаждались счастьем, которого им никогда не доводилось испытать, смакуя его в мыслях и, возможно, испытывая более яркое удовольствие, чем, если бы оно было даровано им в действительности. Богатое воображение, которым их наделила природа, развивалось в тихом Властовиц гораздо более бурно, чем в круговерти мира, и дарило им изобилие чистых радостей, над которыми посмеивались и которые презирали лишь те, кто не способен создавать подобные радости.
Как известно, чем размереннее становится жизнь, тем быстрее она проходит, и братья не успели опомниться, как настал день, когда Фридрих сказал:
«Интересно, был ли когда-нибудь хоть один мыслящий человек, который не заметил бы, что время действительно летит очень быстро?»
«Напротив, – сказал Людвиг, – эта истина высказывалась так часто, что нет смысла её повторять».
«Поверили бы мы, если бы не знали, – продолжал Фридрих, – прошло ровно десять лет с тех пор, как мы переехали во Властовиц».
Людвиг стряхнул пыльные носки сапог хлыстом, затем скрестил руки на груди и меланхолично уставился на зелень, вернее, на желтизну, ведь была осень, и они сидели перед золотистым ясенем.
«Десять лет, – пробормотал он, – да, да, да – десять лет. Если бы я женился тогда, когда у меня была такая прекрасная возможность… когда я был так влюблен…»
«Когда ты был влюблен», – повторил Фридрих, заставляя себя сделать серьёзное лицо, «…я мог бы быть отцом девятерых детей».
«Восемнадцати, если бы твоя жена каждый раз рожала тебе двойню, гораздо больше, ведь Эпельблю* обычно появляется на свет пучками!» – сказал Фридрих, смеясь.
Людвиг искоса посмотрел на него. «Нет ничего глупее глупого смеха», – пренебрежительно сказал он.
«Нет ничего нелепее человека, который мечтает средь бела дня и бесстрастно фантазирует!» – воскликнул Фридрих.
«К чёрту все твои „если“ и „может быть“, твою чепуху и фантазии! Ты страдаешь навязчивыми идеями. Хоть раз держись за реальность, за реальность!»
Тут Людвиг разразился пронзительным смехом. Он воздел к небу глаза и сжал сжатые руки, обвиняя его. «Реальность! Реальность!» – воскликнул он. «О Боже, и это он говорит о ней… Он!.. Тот, который три года был влюблён в опечатку!»
Фридрих опустил голову от гнева и стыда, покусывая усы. Внезапно он ощетинился: «А ты – знаешь?» Роковое слово застыло у него на губах, но он не произнес его, лишь тихо пробормотал себе под нос: «Черт тебя подери!»
*Эпельблю – досл. «Цветки яблони», фамилия невесты Людвига, игра слов в переводе.
2
Уже в первый год, поселившись во Властовиц, братья решили жениться и уже выбрали себе будущих жён. Фридрих остановил свой выбор на графине Юзефе, дочери высокородного господина Карла, имперского графа Эйнцельнау-Квальнов, и высокородной Елизаветы, имперской графини Эйнцельнау-Квальнов, урождённой баронессы фон Эцерналава, дамы ордена Звёздного Креста. Людвиг, давно смирившийся с тем, что лучше всю жизнь прожить холостяком, что он, по сути, ненавидел, чем жениться на аристократке, решил взять в жёны Лину Эпельблю, дочь торговца из соседнего городка, которая должна была стать его женой и матерью множества вольнодумных Гемперляйнов.
Нельзя сказать, что знакомство братьев с избранницами было близким. Фридрих встретил свою невесту в «Генеалогической книге графских домов» и знал о ней лишь немногое, но это немногое он знал наверняка. Она жила в Силезии, в поместье отца площадью 1100 акров, ей было двадцать три года, у неё было пять братьев, старшему из которых было тринадцать, и она исповедовала католическую веру. Её родственные связи, как по отцовской, так и по материнской линии, были весьма достойными. Хотя она и не принадлежала к высшему дворянству, она принадлежала к хорошему потомственному дворянству, чей статус ничуть не уступал Гемперляйнам. Тот факт, что у Юзефы были только братья и ни одной сестры, оказал немалое влияние на выбор Фридриха. Таким образом, человеку, который приведет ее в свой дом, не грозило излишнее беспокойство из-за нескольких невесток, возможно, обреченных на безбрачие. Короче говоря, среди всех перечисленных в генеалогических книгах графских дочерей, ни одна не подходила Фридриху больше, чем Юзефа Эйнцельнау. Он с любовью и вниманием следил за жизнью своей избранницы на протяжении трех лет, указанных в альманахе, и все больше стремился в свое время отправиться в Силезию и, движимый самыми честными намерениями, предстать перед графом Эйнцельнау в качестве жениха, стремящегося получить руку графини Юзефы. Тем временем Людвиг не только лично встретился с Линой, но даже однажды разговаривал с ней, когда она приехала во Властовиц навестить свою тетю, госпожу Курцмихель.
«Как дела?» – спросил он хорошенькую девочку, которую застал в саду за вышиванием. Лина Эпельблю поднялась со скамейки, где сидела, сделала короткий, решительный книксен, настоящий мещанский книксен, выражающий самую достойную уверенность в себе, и ответила: «Спасибо, хорошо».
Пауза. Огненный взгляд его голубых глаз выдал его радость, а её карие глаза смущенно опустились. «Что же мне теперь ей сказать? Черт возьми! Что же мне теперь ей сказать?» – подумал барон и наконец воскликнул:
«Ох уж этот деревенский воздух!»
«О, мне и в городе хорошо!» – ответила девушка с весёлой улыбкой. Воспоминание об этом разговоре часто и приятно занимало барона: он без остатка отдавался ему, и его воображение раскрашивало это скромное событие самыми очаровательными деталями. Приветствие прекрасной девушки, её улыбка, её румянец с каждым днём приобретали для него всё более лестный смысл.
Однажды – в воскресенье, когда чета Курцмихелей обедала в замке, Людвиг вдруг повернулся к жене управляющего и сказал: «Ваша племянница – поистине очаровательная девушка! Прекрасная, любезная девушка».
Фрау Курцмихель как раз слушала рассуждения Фридриха и мужа о предстоящей стрижке овец с пониманием и интересом, как ко всем серьёзным вопросам, чему, прежде всего, она и была обязана своей репутацией исключительно умной женщины. Ей потребовалось несколько мгновений, чтобы направить полет своих мыслей в новое русло, вызванный замечанием Людвига, словно свалившимся с неба. Однако, как только ей это удалось, на её большом, полном достоинства лице появилось выражение нежной благожелательности. Она одобрительно тряхнула локонами, которые были неотделимы от воскресного чепчика, и сказала: «Хороший ребёнок! Благовоспитанный, домашний… признаю». Похвала строгой дамы была бесценным моральным свидетельством.
На это Людвиг сказал: «Так-так», и потирал руки с каким-то исступленным энтузиазмом, который для него был признаком высшего удовлетворения, истинного блаженного экстаза. Всего несколько месяцев спустя он объявил брату однажды вечером, что его твёрдое, непоколебимое желание, несокрушимое никакими соображениями, никаким сопротивлением, никакими препятствиями – короче говоря, ничем на свете – жениться на Лине Эпельблю. Когда он упомянул это имя, Фридрих бросил на него взгляд, полный негодования и дикого презрения, но тут же снова опустил глаза в книгу перед собой. Это был «Иуда, Бронзовый Шлем», его любимая книга. Опершись локтями о стол, сжав кулаки и прижав их к вискам, он продолжал читать со страстным вниманием. Людвиг тоже скрестил руки, выгнул спину, и пристально, не мигая, уставился на брата. Лицо его становилось всё краснее и краснее, морщины на лбу сжимались всё более угрожающе, но тот читал – и молчал. Тут Людвиг пронзительно вскрикнул: «Ха-ха!», откинулся назад и начал насвистывать.
«Не свисти!» – яростно крикнул Фридрих, не поднимая глаз.
«Не кричи!» – громко возразил Людвиг, быстро и громко добавив: «Что ты имеешь против моей женитьбы? Мне совершенно всё равно, но я хочу знать!»
Фридрих отложил книгу. «Я ничего не имею против твоей женитьбы!» – сказал он. «Женись, на ком хочешь, хоть на батрачке, мне всё равно!.. Только…» – его лицо приняло выражение холодной жестокости; он торжественно поднял руку, разделявшую его с братом, – «только: каждому своё! – В жизни есть ступени. – Тебя тянет к низшим, меня – к высшим…»
«Что?» – перебил его Людвиг с вызывающей насмешкой. «Что есть в жизни? – Ступени?»
Фридриха было не остановить; Он продолжил тем властным тоном, который умел использовать в решающие моменты: «Моя жена здесь, твоя там. Я не потерплю их общения. Моя Юзефа никогда не переступит порога дома урожденной Эпельблю.»
«Надеюсь!» – воскликнул Людвиг. «Общение с надменной аристократкой – нет уж, спасибо. Моя жена не должна догадываться, что существуют глупцы, которые считают себя особенными, потому что их предков можно перечислить!»
«А почему это возможно?» – вмешался Фридрих. «Потому что предки отличились, не затерялись в толпе – вот почему их можно перечислить».
«Совпадение!» Младший барон фон Гемперляйн ответил: «Что они смогли отличиться; что благоприятные обстоятельства сохранили память об их почётном или постыдном поступке в народе… Достаточно деяний – почитайте историю – достаточно событий, преобразивших мир, чьих творцов никто не знает… А, как насчёт потомков этих людей? Можешь ли ты поклясться в том, что наш Антон Шмидт не потомок автора прекраснейшего немецкого гимна богам или одного из избранных готских королей? Можешь ли ты в этом поклясться?» – спросил он, пронзительно глядя на брата. Тот, немного смутившись, пожал плечами и сказал:
«Смешно!»
«Смешно? Я скажу тебе, что смешно. Смешно пользоваться почестями, которых заслуживают другие. Это более чем смешно; подло присваивать плоды чужого труда!»
«Чужого? Разве мои предки мне чужие?!»
«Оставь предков в покое! Неужели ты вечно будешь выкапывать свои претензии для самого драгоценного, что есть, для уважения людей, из самых отвратительных вещей, что есть, из самых мерзких, что есть?.. Фу! Мне это противно!»
Людвиг содрогнулся от отвращения, а затем добавил спокойнее, почти умоляющим тоном:
«Неужели ты никогда не поймешь, что в пользу института дворянства нельзя сказать ничего, кроме того, что сказал прокурор Сегье – оставьте историю в покое! – а в пользу других злоупотреблений сказал: их долгая практика делает их достойными почитания… Или того, что болландисты* говорили в пользу воровства – достаточно прочитать Acta Sanctorum („Деяния Святых“) до сорок четвертого тома…»
«До какого?» – воскликнул Фридрих, возмущённый этой бессмысленной дерзостью.
Брат презрительно улыбнулся и сказал: «Знаешь ли ты, какую цену ты платишь за свою родовую гордость? Это называется самоуважением!.. То, что я есть, то, чем я остаюсь, если у меня отнимут моё имя, моё звание, моё состояние, – вот моя ценность; только на этом я строю свои права; остальное я презираю как дар слепого, бессмысленного случая!»
Оба вскочили на ноги; старший бросился на младшего и схватил его за плечи:
«Чей дар эти плечи? Кому ты обязан этой грудью, этим ростом, который возвышается над обычным человеком на голову? И тем, что в твоей груди бьётся честное сердце, и тем, что в твоей голове живут идеи – глупые, конечно, но всё же идеи – кому ты всем этим обязан? Случай ли тебе это дал или предки?»
«От природы!»
«Да, от природы Гемперляйнов!» – торжествующе возразил Фридрих.
«Твой кругозор», – сказал Людвиг после короткой паузы, – «не более обширен, чем кругозор цесарки. Есть неподвижная точка, вокруг которой ты вращаешься, словно тот зверёк на бесплодной пустоши…»
«Цесарка? Животное?» – проворчал Фридрих. – «Может, на этот раз ты остановишься со своими зоологическими сравнениями». «Неподвижная точка, от которой любой осёл…» – Людвиг задержал голос на этом слове, чтобы показать, как мало он внял полученному увещеванию, – «от которой любой осёл, оттолкнувшись, может изменить рациональный мир, это называется предрассудком».
«Людвиг! Людвиг! – перебил его брат. – Подняв руки, заклинаю тебя: не касайся предрассудков… предрассудков!» Он повторил, делая неописуемый, можно даже сказать, нежный акцент на этом слове:
«Вот то, что грубиян называет вежливостью, эгоистическое самоотречение, негодяйская добродетель, атеистическая вера в Бога, блудливый ребёнок – почтение к родителям! Уберите предрассудки, и вы уберёте долг!»
«Эй! Хватит», – властно сказал Людвиг. «Разум ничего не докажет; нужно действовать». Он откинул голову назад, пророчески устремив взгляд вдаль, и в его голосе звучала возвышенная уверенность:
«Мои дети научат вас понимать, что значит быть воспитанным в почтении к почтенным, но – без предрассудков…»
«Твои дети! Держи своих детей подальше от меня!» – кричал Фридрих и, будто отчаянно отмахивался и боролся в воздухе, с маленькими беззаботными созданиями, которые летели к нему яркими стаями со всех сторон. «Я не позволю твоим детям переступить порог моего дома, твоим детям! Они не посмеют даже приблизиться к нему, к моему дому!»

