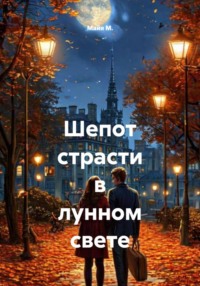Полная версия
Запретная симфония
– Профессор, – произнесла она. Ее голос в тишине парка прозвучал особенно звонко.
– Мадемуазель Соколова, – он сделал несколько шагов вперед, но не сел. – Вы не по той дороге пошли. К общежитию в другую сторону.
– Я знаю. Я здесь живу, – она махнула рукой в сторону старинного особняка, видневшегося сквозь деревья. – В частном секторе. Снимаю комнату.
Он кивнул. Неловкая пауза затягивалась. Ветер трепал ее волосы, выбившиеся из пучка.
– Насчет сегодняшнего… – начал он, подбирая слова.
– Вам необязательно, – быстро перебила она. – Я понимаю. Я переступила черту. Это больше не повторится.
– Нет, – неожиданно для себя сказал он. – Это… Ваш подход имеет право на существование. В определенном контексте.
Она смотрела на него, и в ее глазах зажегся крошечный огонек интереса.
– Но не в вашем классе?
– Мой класс – это место, где учатся основам. Фундаменту. Без фундамента даже самый красивый дом рухнет.
– А если фундамент уже есть? – спросила она тихо. – Если он был заложен давно? Что тогда? Нужно просто всю жизнь сидеть в этом фундаменте и бояться построить стены?
Он смотрел на нее, и вдруг остро, до физической боли, ощутил разницу в их возрасте. Ей было восемнадцать. Она верила, что фундамент – это лишь начало. Для него фундамент стал всем. Стенами, потолком, единственным убежищем.
– Стены могут быть разными, – сказал он, и его голос прозвучал устало. – Иногда они защищают. А иногда – становятся тюрьмой.
Она не ответила. Она снова смотрела на воду. Минуту, другую. Тишина между ними была уже иной. Не враждебной, а насыщенной, почти осязаемой.
– Я играю по вечерам, – вдруг сказала она, не глядя на него. – Здесь, в парке. Когда никого нет. Рояля нет, но… я представляю его. Проигрываю все в уме. Каждую ноту. Каждый палец. Это… помогает.
Он представил ее – сидящую в темноте на холодной скамейке, с закрытыми глазами, пальцы которой бегут по воображаемой клавиатуре. Одинокая, странная девочка, одержимая музыкой. Как и он в ее годы. До того, как жизнь наложила на него свой отпечаток, заковала в броню правил и условностей.
– Это хорошая практика, – сказал он, и его собственный голос показался ему неестественным. – Ментальная репетиция. Многие великие так делали.
Она повернулась к нему, и в ее улыбке была тень иронии.
– Вы тоже?
Он колебался секунду, потом кивнул.
– Да. В молодости. Когда не было доступа к инструменту.
Он не сказал, что иногда делает это до сих пор. Лежа ночью в постели, в полной тишине, он проигрывал в голове целые концерты. Это был его способ убежать от бессонницы, от навязчивых мыслей.
– А сейчас? – спросила она, и в ее вопросе прозвучала не просто вежливость, а genuine curiosity.
– Сейчас у меня есть «Бехштейн», – сухо ответил он.
Она снова замолчала. Ветер усилился, завывая в голых ветвях деревьев.
– Мне пора, – вдруг сказала она, поднимаясь. – Завтра утром занятия.
Он тоже поднялся. Они стояли друг напротив друга, разделенные двумя метрами промерзшего осеннего воздуха и бездной социальных условностей.
– Да, – сказал он. – И не опаздывайте.
Она кивнула, подняла свою тяжелую папку и, не прощаясь, пошла по аллее к особняку. Он смотрел ей вслед, пока ее темная фигура не растворилась в сумерках.
Он остался один. Холод проникал сквозь пальто. Он повернулся и пошел обратно к консерватории, к своему кабинету, к своему «Бехштейну». К своему порядку.
Но внутри у него все горело. Этот краткий, ничего не значащий разговор в парке всколыхнул в нем что-то давно забытое. Ощущение связи. Понимания. Опасной близости.
Он вернулся в свой кабинет, запер дверь и сел за рояль. Он не играл ни Баха, ни Бетховена. Он играл Равеля. Тот самый пассаж. Сначала так, как учил. Потом – так, как сыграла она. И снова, и снова. Он искал ту самую грань, где техника встречается с душой. Где порядок встречается с хаосом.
И впервые за много лет музыка, которую он играл, казалась ему недостаточной. Ему хотелось слышать больше. Хотелось слышать ее голос, ее смех, ее спор. Ему хотелось слышать ту симфонию, которая начинала звучать в нем самом – тревожную, диссонирующую, но неумолимо прекрасную.
Он понял, что пропасть, которую он так тщательно выстраивал между собой и миром, между разумом и чувством, начала рушиться. И на другом ее краю стояла она. Его запретная, невозможная, неумолимая муза.
Глава третья. Интерлюдия с обострением
Ноября пришел с мокрым снегом и промозглым ветром, завывавшим в вентиляционных решетках консерватории. Казалось, сама природа пыталась проникнуть внутрь этого оплота искусства, чтобы заморозить кипящие в нем страсти. Но страсти, однажды пробудившись, лишь разгорались сильнее от попыток их подавить.
Матвей Сергеевич Волков стоял перед своим классом, скрестив на груди руки. Его лицо было маской профессиональной строгости, но внутри все было перевернуто с ног на голову. Прошло почти две недели с той странной, случайной встречи в парке. Две недели, в течение которых он ловил себя на том, что ищет ее взгляд в классе, прислушивается к ее шагам в коридоре, мысленно ведет с ней бесконечные споры о музыке и жизни.
Она же, Алиса Соколова, казалась, стала еще более сдержанной, почти отстраненной. Она выполняла все его указания с такой педантичной точностью, что это начинало его бесить. Исчезли те самые «дикие» нотки, те всплески эмоций, которые так задевали его за живое. Теперь она играла безупречно, холодно, почти… как он. Это была идеальная ученица. И он ненавидел это.
«Она строит свои собственные стены», – с горечью подумал он, наблюдая, как она отрабатывает сложнейший пассаж из Рахманинова. Ее пальцы летали по клавишам с нечеловеческой точностью, но в звуке не было ни капли того огня, что обжег его на прослушивании.
– Достаточно, – резко оборвал он ее. – Технически приемлемо. Но где музыка, мадемуазель Соколова? Где та самая жизнь, которую вы так яро отстаивали?
Она медленно опустила руки на колени и подняла на него взгляд. В ее серых глазах он не увидел ни смущения, ни гнева. Лишь усталое равнодушие.
– Я следую указаниям, профессор. Основам. Фундаменту. Как вы и велели.
В ее голосе не было и тени насмешки, но каждый ее слово било точно в цель. Он понял, что она мстит ему. Мстит молчаливым, идеальным послушанием, вытравливая из своей игры все, что делало ее уникальной. И самое ужасное было в том, что он не мог ничего сказать. Она делала именно то, что он от нее требовал.
– Фундамент – не значит бездушие, – сквозь зубы проговорил он. – Бетховен, которого вы сейчас играли, был глух. Он не слышал музыку, он чувствовал ее всем своим существом. Он вырывал ее из своей ярости, своего отчаяния, своей страсти. А вы играете так, будто разучиваете скучное упражнение.
Она чуть склонила голову.
– Как мне следует играть, профессор? Продемонстрируйте, пожалуйста.
Вызов. Чистейшей воды вызов. Она знала, что он не сможет сыграть так, как играла она в тот первый день. Он не мог изобразить ту самую «дикую страсть». Его сила была в контроле, в интеллектуальном осмыслении, в безупречной технике. А она требовала от него того, в чем он сам себя ограничил.
Он резко повернулся и отошел к окну. За стеклом кружился мокрый снег.
– У меня к вам другое предложение, – сказал он, глядя в серое небо. – Через месяц в Большом зале проходит вечер памяти моего учителя, Макарова. Я буду исполнять Второй концерт Рахманинова. Вам знакомо это произведение?
Он услышал, как она замерла. Даже дыхание ее на мгновение прервалось.
– Да, – наконец выдавила она. – Конечно.
– Я буду репетировать с оркестром на следующей неделе. В среду, в десять утра. Присутствуйте. Ваша задача – следить за партитурой и делать пометки. Я хочу, чтобы вы написали для меня подробный разбор моей интерпретации. Со всеми замечаниями и предложениями.
Он повернулся и посмотрел на нее. На этот раз на ее лице было настоящее, неподдельное изумление.
– Вы… хотите, чтобы я критиковала ваше исполнение? – прошептала она.
– Я хочу, чтобы вы учились слушать, – поправил он. – А лучший способ научиться – это анализировать игру других. Тем более, – он позволил себе едва заметную улыбку, – вы так уверены в своем чувстве музыки. Продемонстрируйте его на практике. Считайте это вашим следующим заданием.
Он видел, как в ее глазах загорелся тот самый огонь, который он тщетно пытался разжечь все эти недели. Вызов был принят.
– Хорошо, – коротко сказала она. – Я буду.
Оставшиеся минуты урока прошли в напряженном молчании. Когда она уходила, собрав свои ноты, он не удержался и сказал ей вслед:
– И, Алиса… – он впервые назвал ее по имени, и это слово прозвучало на удивление естественно. Она замерла на пороге, не поворачиваясь. – Верните себе вашу жизнь. Хотя бы в Бетховене. Мертвого композитора играть бездушно – вдвое больший грех.
Она не ответила. Просто кивнула и вышла, тихо прикрыв за собой дверь.
Репетиция в Большом зале была назначена на среду. Матвей Сергеевич волновался, хотя ни за что не признался бы в этом даже самому себе. Волновался не из-за оркестра или дирижера – они были старыми, проверенными партнерами. И не из-за публики – ее на репетиции не будет. Он волновался из-за нее. Из-за той худой девушки с огромной партитурой в руках, которая сидела в десятом ряду пустого зала, уткнувшись в ноты, и изредка бросала на сцену внимательный, серьезный взгляд.
Он вышел на сцену в простом черном свитере и брюках. Оркестр уже настраивался, создавая привычный какофонический гул, который всегда предшествует музыке. Дирижер, седой и энергичный Виктор Петрович, пожал ему руку.
– Ну, Матвей, готовы творить? – улыбнулся он.
– Всегда, Виктор, – кивнул Волков.
Его взгляд скользнул по залу. Она сидела, не двигаясь, как маленький темный истукан. Он глубоко вздохнул, сел за рояль, поправил табурет и кивнул дирижеру.
И начал.
Второй концерт Рахманинова. Музыка, которую он знал наизусть, которую играл сотни раз. Музыка, в которую он всегда привносил свою собственную, выстраданную интерпретацию – сдержанную, меланхоличную, наполненную тоской по утраченной России, по утраченной молодости, по утраченным иллюзиям.
Он погрузился в знакомые аккорды, отдался им всем существом. Его пальцы сами находили нужные клавиши, тело раскачивалось в такт музыке. Он играл, забыв о зале, об оркестре, о дирижере. Он играл для себя. Играл так, как чувствовал.
Когда отзвучали последние ноты, в зале на секунду воцарилась тишина, а затем оркестранты, по традиции, постучали смычками по пюпитрам – знак высшего одобрения. Виктор Петрович хлопал его по плечу, что-то говоря.
Но Матвей Сергеевич искал лишь один взгляд. Взгляд из десятого ряда.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.