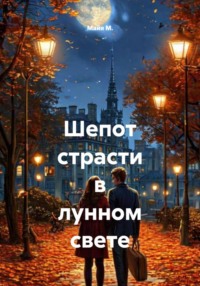Полная версия
Запретная симфония

Майя М.
Запретная симфония
Глава первая. Диссонанс
Осенний ветер гнал по асфальту алые и золотые листья, вырывая их из плотного ковра, устилавшего тротуары старого города. Он свистел в узких переулках, срывал последние поблекшие лепестки с астр в чьих-то палисадниках и яростно бился в высокие витражные окна Московской консерватории. Внутри, за толщей стен, поглощавших городской шум, царила иная атмосфера – напряженная, насыщенная тишиной, которая была громче любого оркестра. Это была тишина ожидания, пронизанная отзвуками только что отзвучавших гамм и обрывков будущих мелодий.
Профессор Матвей Сергеевич Волков стоял у окна в своем кабинете на третьем этаже, глядя, как ветер пытается сорвать последний упрямый лист с древнего клена во дворе. Его взгляд был отсутствующим, пальцы правой руки непроизвольно перебирали в воздухе некий сложный пассаж. Сегодня был один из тех дней, которые он одновременно любил и ненавидел – день прослушиваний новых студентов. Поток молодых, зачастую бездарных, но до неприличия амбициозных мальчиков и девочек, уверенных, что их талант затмит саму память о Рихтере и Гилельсе.
Он вздохнул, развернулся и прошелся по кабинету. Комната была его крепостью, его убежищем. Высокие стеллажи, доверху забитые нотами, многие из которых были раритетными, с пометками великих предшественников. Рояль «Бехштейн» – черный, отполированный до зеркального блеска, холодный и совершенный, как айсберг. Никаких лишних деталей, никаких безделушек. Только портрет Баха в строгой раме, да несколько профессиональных наград в стеклянной витрине. Порядок. Абсолютный и безоговорочный порядок. Именно в нем Матвей Сергеевич видел залог чистоты музыки. Хаос чувств, эмоциональные всплески – все это было уместно на сцене, в интерпретации, но не в процессе работы. Работа была дисциплиной.
Его мысли прервал стук в дверь – сухой, отрывистый, как стаккато.
– Войдите, – голос Волкова прозвучал низко и глухо, без малейшей приветливой ноты.
Дверь открылась, и на пороге появилась заведующая учебной частью, Маргарита Павловна, женщина с неизменной строгой прической и пронзительным взглядом.
– Матвей Сергеевич, группа уже собралась в малом зале. Ждут вашего появления. Все документы проверила, список утвержден.
– Спасибо, Маргарита Павловна, – он кивнул. – Я выйду через минуту.
Она исчезла так же бесшумно, как и появилась. Волков взял со стола свою записную книжку и толстый карандаш. Он делал пометки во время прослушиваний. Резкие, иногда беспощадные. «Руки как клещи», «Слух хромает», «Музыкальность нулевая, амбиции зашкаливают». Он не верил в щадящие формулировки. Искусство не нуждалось в жалости.
Малый зал консерватории был полон. Воздух гудел от сдержанных разговоров, нервного смешка, скрипа стульев. Человек тридцать, не больше. Лучшие из лучших, прошедшие жесточайший отбор в училищах и на предварительных турах. И все равно, как знал Волков, настоящих звезд среди них можно будет пересчитать по пальцам одной руки. А возможно, и вовсе не окажется.
Он вошел через боковую дверь, не глядя на аудиторию, и прошел к столу, стоявшему рядом с роялем. Его появление заставило зал мгновенно замолкнуть. Атмосфера сгустилась, стала вязкой, как мед. Волков сел, откинулся на спинку стула и, наконец, поднял глаза. Тридцать пар глаз смотрели на него с смесью страха, обожания и надежды. Он видел это из года в год. Его репутация была ему известна. Матвей Волков – гениальный пианист, педагог от Бога, но человек без сердца. Ходячий айсберг. Разрушитель надежд.
Не говоря ни слова, он кивнул секретарю комиссии, сидевшей поодаль. Та взволнованно прочистила горло.
– Алексеев Игорь! – раздался ее голос, слегка дрожащий.
Из первого ряда поднялся долговязый юноша с взмокшими от волнения вихрами. Он неуклюже поклонился комиссии и уселся за рояль. Программа была стандартной: Бах, Моцарт, Лист. Алексеев играл неплохо. Технически подкован, пальцы быстрые, цепкие. Но это была игра робота. Никакого намека на душу, на понимание. Бах в его исполнении звучал как сухая математическая формула, а Лист – как цирковой трюк.
Волков слушал, закрыв глаза, его лицо было непроницаемо. Когда последний аккорд отзвучал, он открыл глаза и сделал пометку в блокноте: «Техника есть. Музыки нет». Громко, на весь зал, он сказал:
– Спасибо. Следующий.
В голосе не было ни одобрения, ни порицания. Только ледяная нейтральность. Игорь Алексеев, смущенно покраснев, вернулся на место. Атмосфера в зале стала еще более гнетущей.
Шли один за другим. Девушка, исполнявшая Шопена с таким надрывом, что казалось, вот-вот лопнут струны. Волков написал: «Истерика, а не интерпретация». Юноша, с таким трепетом игравший Дебюсси, что звук едва долетал до последних рядов. Пометка: «Боязнь инструмента. Не пианист».
Он чувствовал растущее раздражение. Год от года уровень падал. Все больше виртуозов, не способных понять разницу между нотой и звуком. Все меньше музыкантов. Он уже мысленно составлял список тех, кого можно было бы взять в свой класс. Кандидатов было двое. Всего двое из тридцати. Ужасающая статистика.
– Следующая. Соколова Алиса! – объявила секретарь.
Волков машинально поднял взгляд. Из глубины зала поднялась девушка. И в этот момент что-то щелкнуло в пространстве. Не звук, а скорее смена давления. Она шла к роялю не спеша, с странным, не свойственным другим абитуриентам достоинством. Высокая, очень худая, почти хрупкая. Темные волосы, собранные в небрежный пучок, из которого выбивались непослушные пряди. Простое черное платье без каких-либо украшений. Лицо… Матвей Сергеевич не был ценителем женской красоты в общепринятом смысле. Для него красота заключалась в гармонии линий фуги или в идеальной конструкции сонаты. Но это лицо было… интересным. Резковатые скулы, слишком большой рот, темно-серые, почти стальные глаза под широкими бровями. Не красавица, но в ней была какая-то магнетическая незавершенность, как в наброске гения.
Она не поклонилась. Не улыбнулась. Просто села на табурет, отрегулировала его высоту долгой, почти чувственной процедурой, положила пальцы на клавиши и замерла.
Волков нахмурился. Ее молчаливая уверенность раздражала его. Вызов.
– Ваша программа, мадемуазель Соколова? – его голос прозвучал резче, чем он планировал.
Она медленно повернула голову в его сторону. Взгляд был прямым, без страха, без подобострастия.
– Бах. Хроматическая фантазия и фуга ре минор, – произнесла она. Голос у нее был низкий, немного хрипловатый, как будто от долгого молчания.
Волков ощутил легкое удивление. Смелый выбор. Одно из самых сложных и философски насыщенных произведений Баха. Музыка вселенского масштаба, где сталкиваются хаос и порядок, отчаяние и надежда. Не многие студенты решались на него, особенно на прослушивании.
– Начинайте, – бросил он, откидываясь на спинку стула. Он был готов к провалу. К тому, что эта самоуверенная девочка разорвет в клочья великую музыку.
Она закрыла глаза. Секунда, другая. Полная тишина. И затем…
Первый же аккорд обрушился на зал, как удар грома. Он был не просто громким. Он был… плотью. Плотным, почти осязаемым звуком, который заполнил собой все пространство. Ее пальцы, такие тонкие и хрупкие на вид, обрели невероятную силу. Фантазия зазвучала. Это не было исполнением. Это было проживанием. Хаотичные, яростные пассажи сменялись внезапными островками пронзительной лирики. Она не играла ноты – она извлекала из инструмента душу. Ее тело было полностью поглощено музыкой: оно сгибалось в порывистых форте, выпрямлялось в нежных пиано. Казалось, звук рождался не из механизма рояля, а из нее самой.
Волков сидел, не двигаясь. Он забыл о блокноте, о карандаше, о комиссии, о других студентах. Он слушал. Впервые за многие годы он не анализировал, не искал ошибки, не составлял внутренний критический отзыв. Он просто слушал. И чувствовал.
Она вела его по лабиринтам баховского гения. Сквозь отчаяние хроматических ходов, к просветлению фуги. Фуга… Обычно это была сухая, математически выверенная конструкция. В ее исполнении она стала гимном разума, торжествующего над хаосом. Каждый голос был ясен, каждая тема – словно живое существо, вплетающееся в сложнейшую полифонию целого.
Когда отзвучал финальный аккорд, в зале стояла гробовая тишина. Ни аплодисментов, ни вздохов. Люди замерли, словно боялись разрушить заклинание.
Алиса Соколова медленно опустила руки на колени. Она дышала глубоко, как после бега. На ее лбу выступили крошечные капельки пота. Она повернулась и снова посмотрела прямо на Волкова. В ее взгляде не было вопроса, не было ожидания оценки. Был лишь усталый покой.
Матвей Сергеевич ощутил, как что-то сдвинулось внутри него. Какая-то древняя, давно забытая шестеренка, проржавевшая от бездействия, вдруг дрогнула и повернулась. В груди защемило. Он понял, что все это время затаил дыхание.
Он заставил себя опустить взгляд на блокнот. Чистая страница. Он не написал ни слова. Его пальцы сжали карандаш так, что кости побелели.
Подняв голову, он встретился с ее взглядом. Глаза ее были теперь другими – в них читалась уязвимость, обнаженность. Она отдала что-то сокровенное, и теперь ждала реакции. Не вердикта комиссии, а именно его реакции.
– Спасибо, – произнес Волков, и его собственный голос показался ему чужим, приглушенным. – Следующий.
Он нарушил свой же принцип. Никаких комментариев. Никакой оценки. Но эти два слова прозвучали не как отсылка, а как признание. Тихий, личный реверанс.
Алиса медленно встала и так же молча, не глядя ни на кого, вернулась на свое место. Шепот пробежал по залу. Кто-то начал неуверенно аплодировать, но аплодисменты быстро затихли, наткнувшись на ледяную ауру профессора.
Прослушивание продолжалось, но Волков уже не слышал. Он делал вид, что делает пометки, кивал, иногда бросал короткие реплики. Но его сознание было там, в звуковом вихре, который создала эта девушка. Он мысленно возвращался к каждому такту, к каждой фразе. Это была не просто талантливая игра. Это была… гениальность. В чистом виде. Та самая искра, которую он уже и не надеялся встретить.
Когда последний абитуриент, потный и счастливый, закончил свое выступление, Волков поднялся.
– Комиссия удаляется на совещание, – сухо бросил он и первым вышел из зала.
В преподавательской царил привычный шум. Обсуждали кандидатуры, спорили, делились впечатлениями. Волков молча подошел к окну, снова глядя во двор. Ветер все так же трепал ветки клена.
К нему подошел Александр Игнатьевич Лужков, его старый друг и коллега, профессор по классу скрипки, полная противоположность Волкову – румяный, громкий, жизнерадостный.
– Ну что, Матвей, как впечатления? Нашел себе нового Мессию? – хлопнул он его по плечу.
Волков вздрогнул от прикосновения.
– Есть пара перспективных, – буркнул он, не поворачиваясь.
– А та девочка… Соколова? – Лужков присвистнул. – Вот это да! Баха так играть в восемнадцать лет! Я, честно говоря, обалдел. Чистейший огонь. Тебе бы ее в класс, Матвей. Только ты сможешь эту энергию в нужное русло направить. А то спалит себя.
Волков резко обернулся.
– Почему именно мне?
– А кому еще? – удивился Лужков. – У нее твой стиль. Та же стальная основа, та же бескомпромиссность. Только скрытая под слоем этой… дикой страсти. Ты же сам должен это видеть.
Он видел. И в этом была проблема.
Совещание прошло быстро. Список был утвержден. Алиса Соколова, разумеется, прошла. Более того, ее единогласно решили определить в класс к профессору Волкову. Формальность. Лучшая – лучшему.
Волков вернулся в свой кабинет, когда уже смеркалось. Он не включил свет, уселся в кресло за роялем и неподвижно сидел в наступающих сумерках. В ушах все еще звучала та самая Хроматическая фантазия. Ее Фантазия.
Он потянулся к клавишам, коснулся их кончиками пальцев. И сыграл первую фразу. Тот же аккорд. Но звук был другим. Правильным, выверенным, холодным. Технически безупречным. И совершенно безжизненным.
Он с силой ударил по клавишам, извлек резкий, громкий диссонанс. Звук болезненно отозвался в тишине кабинета.
«Дикая страсть», – сказал Лужков.
Волков встал и подошел к окну. На улице зажглись фонари, их свет дрожал в лужах, оставленных недавним дождем. Он чувствовал себя так, будто его собственный, идеально выстроенный мир дал трещину. В его царство порядка, где все было подчинено логике и дисциплине, ворвался хаос. Ворвался в образе хрупкой девушки с огнем в пальцах и сталью во взгляде.
Он думал о том, что будет завтра. О первой встрече в классе. О том, как он будет ее учить. Чему он, собственно, может ее научить? Технике? Она уже виртуоз. Интерпретации? Ее интерпретация Баха была откровением, которого он сам, признаться, никогда не достигал.
А потом он подумал о другом. О пропасти. Ему – сорок два. Ей – восемнадцать. Он – профессор, мировая знаменитость, живой классик. Она – студентка, вчерашняя школьница. Между ними – не просто возраст. Между ними – целая жизнь. Опыт, разочарования, выстраданные принципы. И непреложное правило, железный закон педагогической этики: никаких личных отношений. Никогда.
Он вспомнил ее взгляд. Прямой, бездонный, спрашивающий.
И тогда Матвей Сергеевич Волков, человек, который decades назад заковал свое сердце в лед, чтобы не мешало музыке, с ужасом осознал, что лед этот начал таять. Одна лишь музыка, один лишь талант сделали то, чего не смогли сделать годы, женщины, слава.
Это было опасно. Это было запретно. Это было невозможно.
Он резко отвернулся от окна, зажег свет. Яркий электрический свет залил кабинет, выхватывая из темноты строгие линии стеллажей, глянцевую поверхность «Бехштейна». Порядок. Он должен был вернуть порядок.
Он сел за стол, достал список своих новых студентов и напротив имени «Соколова Алиса» поставил галочку. Просто галочку. Никаких пометок.
Но в тишине его кабинета, в самых глубинах его сознания, уже звучал навязчивый, тревожный мотив. Мотив приближающейся бури. Мотив запретной симфонии, первую ноту которой сегодня прозвучала она.
Глава вторая. Канон строгого следования
Первые недели октября принесли с собой не только золотую листву, но и суровую рутину учебного года. Консерватория жила своим неизменным ритмом: с утра до вечера из-за дверей классов доносились гаммы, этюды, отрывки из симфоний и опер. Воздух был насыщен звуком, как океан водой – он вибрировал, гудел, переливался обертонами, создавая особую, ни на что не похожую ауру этого места.
Класс профессора Волкова находился на четвертом этаже, в самом конце длинного, слабо освещенного коридора. Сюда, как в святая святых, допускались лишь избранные – его студенты. Их было всего пятеро. Элита. Каждый – яркая индивидуальность, каждый – обладатель дипломов престижных конкурсов. И каждый смертельно боялся своего маэстро.
Все, кроме одной.
Алиса Соколова занималась в классе Волкова три недели. За эти двадцать один день она успела стать главной загадкой и главным раздражителем для Матвея Сергеевича. Она была безупречна. И совершенно невыносима.
Их первая индивидуальная встреча состоялась через два дня после зачисления. Она вошла в его кабинет так же молчаливо, как и на прослушивании, с тем же прямым, испытующим взглядом.
– Садитесь, – указал он на стул перед роялем. – Ваша программа на семестр?
– Бах. Итальянский концерт. Бетховен. Соната номер двадцать три, «Аппассионата». Рахманинов. Второй концерт, – отчеканила она без паузы.
Волков медленно поднял бровь. Программа сложнейшая, рассчитанная на зрелого, состоявшегося музыканта. Вызов.
– «Аппассионату» мы с вами будем проходить только в следующем году. Пока что – Двадцать первая соната Бетховена. И Шопена. Ноктюрны. Вам не хватает кантилены, певучести. Ваше легато хромает.
Он ожидал возражения, спора. Она лишь кивнула, как солдат, получивший приказ.
– Хорошо.
И начала играть. Играла так же блестяще, как и на прослушивании. Но теперь он слушал иначе – не душой, а профессиональным, критическим слухом педагога. И находил изъяны. Не грубые ошибки, а мельчайшие шероховатости, которые в ее мощном, эмоциональном исполнении были почти незаметны. Почти.
– Стоп, – его голос прозвучал, как щелчок кнута. – Такт семнадцатый. Левая рука. Слишком акцентировано. Вы дробите мелодическую линию. Должно быть плавно. Как певец берет дыхание.
Она остановилась, посмотрела на свои руки.
– Я так чувствую.
– Музыка – это не только чувство, – холодно парировал он. – Это архитектура. Математика. Вы должны подчиняться логике композитора, а не своим сиюминутным порывам. Сыграйте еще раз. И слушайте.
Она сыграла. Снова с тем же акцентом.
– Нет! – он резко встал и подошел к роялю. – Вот. Слушайте.
Он сел рядом с ней на табурет. Пространство внезапно сузилось до размеров клавиатуры. Он уловил легкий, едва заметный аромат ее духов – что-то холодное, лесное, вроде мха и влажной земли после дождя. Он отогнал назойливую мысль. Его пальцы коснулись клавиш. Он сыграл тот же пассаж. Безупречно ровно, с идеальным, текучим легато. Звук был красив, как отполированный хрусталь. И так же холоден.
– Вот так, – сказал он, убирая руки с клавиш.
– Это безжизненно, – тихо, но отчетливо произнесла она.
Он замер, чувствуя, как гнев начинает подниматься в нем горячей волной. Никто. Никто за все годы не позволял себе такого.
– Повторите, – его голос стал тише, но в этой тишине была сталь.
Она повернула голову, их взгляды встретились в нескольких сантиметрах друг от друга. Ее серые глаза были спокойны.
– Я сказала, что это безжизненно. Технически безупречно. Но мертво. Бетховен писал эту музыку в огне, а не в леднике.
Он смотрел на нее, не в силах оторваться. На упрямый изгиб губ, на тень ресниц на ее скулах. Он видел тонкую цепочку пульса на ее шее. Она была живая. Осязаемо, дразняще живая. И она бросала ему вызов на его же территории.
– Вы здесь для того, чтобы учиться, мадемуазель Соколова, – проговорил он, с трудом контролируя себя. – А не для того, чтобы поучать. Сыграйте так, как я показал. Или дверь всегда открыта.
Он встал и отошел к окну, давая ей пространство, давая себе возможность отдышаться. Он слышал, как она вздохнула. Потом послышались первые ноты. Те же. Но на этот раз… почти такие, как он просил. Не идеально, но она старалась. В ее исполнении появилась сдержанность, которой раньше не было. Это была маленькая победа. Но почему он не чувствовал триумфа? Почему ему вдруг стало жаль того дикого, необузданного огня, который только что горел в ее игре?
С того дня между ними установилось хрупкое, напряженное перемирие. Она выполняла его требования, но он всегда чувствовал, что за внешним подчинением скрывается бунт. Она была как река, сдавленная в гранитных берегах: спокойная на поверхности, но с мощным, опасным течением в глубине.
Он ловил себя на том, что наблюдает за ней. Не как педагог за студенткой, а как мужчина за женщиной. Он отмечал, как она наклоняет голову, слушая замечания других студентов, как она потирает пальцы перед игрой, как она улыбается – редко и неохотно, но тогда все ее строгое лицо озарялось изнутри. Эти наблюдения злили его, заставляли чувствовать себя старым и недостойным. Он удваивал строгость, становился еще более придирчивым, почти жестоким в своих замечаниях.
Однажды, в середине октября, он давал открытый урок для своего класса. В аудитории присутствовало несколько преподавателей, в том числе и Лужков. Волков разбирал с одним из студентов, робким юношей по имени Денис, сложное место в Равеле.
– Здесь не хватает цвета, – говорил Волков, стоя у рояля. – Представьте себе не просто аккорды, а вспышки света. Яркий, слепящий свет. Играйте резче, острее.
Денис, красный от смущения, пытался, но у него получалось лишь громко и неуклюже.
Волков сдерживал раздражение.
– Снова. С самого начала.
Вдруг с места поднялась Алиса.
– Профессор, можно я попробую?
В классе повисла тишина. Подобное вторрение было неслыханной дерзостью. Волков медленно повернулся к ней. Его взгляд был ледяным.
– Вы хотите преподавать вместо меня, мадемуазель Соколова?
– Я хочу помочь коллеге, – ее голос был спокоен. – Иногда проще понять не на словах, а на примере.
Лужков, сидевший в углу, с интересом подался вперед. Другие студенты замерли.
Волков чувствовал, как по его спине пробежала холодная волна гнева. Но что-то – любопытство? вызов? – заставило его кивнуть.
– Продемонстрируйте.
Она подошла к роялю. Денис, смущенно бормоча извинения, уступил ей место. Она не села. Она просто положила руки на клавиши и сыграла тот самый пассаж. Но она сыграла его не так, как требовал Волков. Ее «вспышки света» были не резкими и слепыми, а переливающимися, как всполохи северного сияния. Она добавила педали, смягчила атаку, и музыка зазвучала не как механический набор звуков, а как нечто волшебное, завораживающее.
– Видите? – она повернулась к Денису. – Не надо бить. Надо… прикоснуться. Как будто вы касаетесь чего-то хрупкого и прекрасного.
Денис смотрел на нее с обожанием и благодарностью.
– Да, – прошептал он. – Я понял. Спасибо, Алиса.
Волков стоял, чувствуя, как кровь приливает к его лицу. Она не просто оспорила его метод. Она публично показала ему, что есть иной путь. И этот путь был прекрасен.
– Вполне поэтично, – проговорил он, и его голос прозвучал зловеще тихо. – Но мы разбираем Равеля, а не Дебюсси. Ваша интерпретация, мадемуазель Соколова, хоть и красива, но не соответствует стилю. Денис, играйте так, как я сказал. А вы – садитесь на место.
Алиса посмотрела на него. В ее глазах он прочел не страх, а разочарование. И это ранило его больнее, чем любая дерзость. Она молча вернулась на свое место.
Урок продолжался, но магия была разрушена. Когда студенты и преподаватели стали расходиться, Лужков подошел к Волкову.
– Жестковато, Матвей, – тихо сказал он. – Девочка-то талантлива. И, по-моему, права. Ее вариант звучал куда интереснее.
– Я – педагог, Саша, а не импресарио по развлечению публики, – отрезал Волков, собирая ноты. – Ее задача – научиться следовать замыслам композитора, а не выставлять напоказ собственные чувства.
– А может, ее задача – напомнить тебе, что у тебя самого есть чувства? – мягко произнес Лужков и, не дожидаясь ответа, вышел из класса.
Волков остался один. Гнев все еще кипел в нем, но теперь к нему примешивалось что-то другое. Сомнение. Он подошел к роялю и сыграл тот самый пассаж из Равеля. Сначала так, как требовал от Дениса. Резко, остро. Звук получился сухим, безжизненным. Потом он попробовал сыграть так, как это сделала Алиса. С педалью, с более мягким туше. Музыка преобразилась. Она заиграла таинственностью, глубиной.
Он с силой захлопнул крышку рояля. Громкий, неприятный звук оглушил его в тишине пустого класса.
«Напомнить тебе, что у тебя самого есть чувства».
Слова Лужкова жгли его, как раскаленное железо. Он подошел к окну. На улице уже темнело. Фонари зажигались один за другим, растягивая длинные тени от голых деревьев. Он видел, как студенты выходят из консерватории, смеются, обнимаются, торопятся на автобусы, в метро. В свою, шумную, молодую жизнь.
И среди них он увидел ее. Алису. Она шла одна, закутавшись в темное пальто, с огромной папкой с нотами под мышкой. Она шла не к метро, а в сторону парка. Быстрая, легкая, как тень. Исчезающая.
И тогда он принял решение. Безумное, иррациональное, против всех его правил.
Он схватил свое пальто и вышел из класса. Он не отдавал себе отчета, зачем он это делает. Возможно, чтобы извиниться. Возможно, чтобы продолжить спор. А возможно… возможно, просто чтобы еще раз увидеть ее вне этих стен, вне ролей профессора и студентки.
Он быстро спустился по лестнице и вышел на улицу. Осенний воздух был холодным и влажным. Он увидел ее вдалеке, она как раз сворачивала в ворота парка. Он ускорил шаг.
Парк был почти пуст. Ветер гнал по дорожкам опавшие листья, их шелест был единственным звуком, нарушающим вечернюю тишину. Фонари здесь горели реже, их свет был призрачным, дрожащим. Он шел по аллее, и вскоре снова увидел ее. Она сидела на скамейке у замерзшего пруда, положив папку рядом с собой, и смотрела на черную воду. Профиль ее был четким и хрупким в полумраке.
Он остановился в нескольких метрах, не решаясь подойти. Что он скажет? «Простите, я был неправ»? Он, Матвей Волков, никогда ни у кого не просил прощения. «Ваша интерпретация Равеля была интересной»? Это прозвучало бы как слабость.
Она, казалось, почувствовала его присутствие. Медленно повернула голову. Увидев его, она не выразила ни удивления, ни страха. Лишь тихую, усталую готовность к бою.