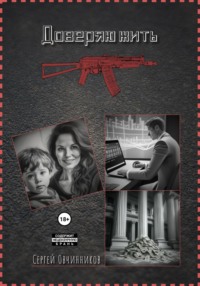Полная версия
Фёдор Достоевский. Идиот. Рецензия
При том, что событийный ряд концентрируется именно вокруг князя в том числе и во время его отсутствия, то есть главные события происходят как будто вне рамок повествования.
Читатель чувствует себя (по неясным мотивам) изолированным от "самого интересного". Событий при этом, судя по отголоскам, происходит изрядно. Таким образом закручивается пружина интриги - что же там такое происходит. Ну а автор получает возможность не показывать все события изнутри, а потом (может быть) в режиме своего излюбленного пересказа отдельные моменты нам подсветить, не слишком ослабляя интригу и без обязательств детализировать лишние подробности.
Своего рода экономия времени и средств, ну и бумаги, конечно. А возможно и перьев. Хотя Достоевский, вроде бы, писал стальными.
Анна Григорьевна Достоевская вспоминает: «Писал свои произведения на плотной, хорошей бумаге с едва заметными линейками. <…>Перо любил твёрдое, острое. Карандашей почти не употреблял».
Итак во второй части почти в самом начале происходит редкое событие - разговор всего лишь двух героев с глазу на глаз. Да ещё на протяжении целых двух глав. Мышкин является к Рогожину. И здесь мне и тревожно, и неуютно. Кажется, что я что-то пропустил, потому что обсуждают они дела уже минувшие.
Тянет вернуться назад и перечитать. Но я же хорошо помню, что не было об этом - только намеки, недомолвки и лишь в общих чертах контур произошедшего.
Значит несколько последующих глав я обречён вгрызаться в текст в надежде отыскать все нюансы, которые только мне будет позволено выпытать у Фёдора Михайловича раз уж ему вольно было интригу и в этой плоскости завернуть.
Я затрудняюсь определить точно свое отношение к такого рода драматургии. Вроде бы на язык просится манипулирование. И в самом деле, повествователь ведь не прикован инвалидным креслом к Санкт-Петербургу. Что ему мешает последовать за героем в Москву и доложить нам всё в красках? Нет никаких уважительных оправданий. Прихоть автора. но при этом я не в обиде. Потому что мне действительно интересно дознаться. Так что, да, я рад поддаться на эту манипуляцию. Напишу тогда "на мастерскую манипуляцию", чтобы не так обидно было.
Но не только этим примечателен диалог князя с Рогожиным. Скажу о главном для меня. О прочем, если повезёт, а то может увлекусь и вовсе забуду. Главное, на мой взгляд, что сообщает мне автор, это осознание князем природы своей любви к Н.Ф. И называет он это прямо вслух в третьей главе второй части. Для меня же это наверное определенный водораздел романа, ибо слово это: жалость!
Мы как раз вот буквально сегодня зацепились с товарищем за образ и характер Н.Ф. Поспорили - а как же. И мысль моя оформилась в некую версию - сейчас доложу.
Но сперва о жалости - что в ней меня так возмутило. Князь выводит такую загогулину:"Я ведь тебе уж и прежде растолковал, что я ее «не любовью люблю, а жалостью». Я думаю, что я это точно определяю."
Наверное, не требуется доказывать, что жалость в принципе не равна любви.Но я на всякий случай в роли капитана Очевидности пройдусь в общих чертах.
Потому что общие черты конечно есть. И в любви и в жалости много сопереживания, пусть эмпатии, если кому-то так понятней. Раньше ещё говорили сочувствие. Только в жалости сочувствие всегда с отрицательным знаком, когда другому плохо. Порадоваться успеху или просто вместе с другим - в случае с жалостью - этому места нет. Жалость - это вообще не про радость.
И любовь и жалость предполагают глубокую эмоциональную вовлечённость и заботу. Поэтому объекту заботы иной раз так легко спутать жалость с любовью. Особенно, когда есть определенные ожидания - ошибиться запросто.
Но главное, что разводит любовь с жалостью в вечном диалектическом противоединстве - неравенство. Жалость - это неравенство, зависимость и подчинение. Это как раз то чувство, которое совестливые плантаторы испытывали по отношению к рабам (пусть к крепостным в нашей традиции), однако же не спешили давать им вольную. Жалость - это вампир, которому нужны проблемы, любой негатив. Как ещё пожалеть, если всё хорошо. Не должно быть хорошо - для жалости это неприемлемо!
Отношения, построенные на жалости, всегда неравноправные, созависимые, и впереди у них всегда тупик.
Любовь же - это прежде всего равноправие и взаимность. Даже, наверное, презумпция равноправия и взаимности. Гордость за самостоятельного и цельного партнёра рядом и вера в него. Готовность к самопожертвованию - тоже обоюдная, взаимная. Если жалость в те или иные моменты здесь и возникает, это эпизоды, через которые важно пройти рука об руку. Поддержка и вера в успех, в лучшее - здесь также равноправные и взаимные.
Прошу прощения за избыток банальностей. Ну а в контексте романа появившаяся на сцене жалость для меня, например, перечёркивает саму возможность большого чувства между двумя главными героями.
Становится предельно ясно, что автор им приготовил нечто иное. У меня усиливается чувство тревоги - я ощущаю, как нарастает трагедийный потенциал.
С другой стороны жалость продолжает работать на образ князя как юродивого, т.е. подражающего Иисусу. Кстати, почему его зовут Лев Николаевич?
Ну хватит, пожалуй, про жалость.
Глава 7
А версия, которой я собирался поделится, и которую, видимо, буду проверять сколько там ещё осталось этого прекрасного текста.
Версия такая. Фёдор Михайлович создал образ (ну и характер) героини, перед которой не в силах устоять мужчины - в независимости от исходного статуса: и почти святые и совсем наоборот. Но сам при этом в героиню свою почему-то не влюбился. Устоял? Или Галатея слишком быстро ожила и показала норов с той стороны, не с самой притягательной, что ли?
Я почитаю ещё и обязательно доложу.
Ох уж это убийство Жемариных. О нем автор начал издалека какими-то намеками ещё от Лебедева, с которым князь встречался до Рогожина. И потом ещё более явственно всплывает в разговоре с половым и продолжает мусолиться в потоке сознания Мышкина в тревожном аккомпанементе надвигающегося припадка. Понимаю, что неспроста это убийство так выпукло возникает и преподносится и возвращаюсь на пару глав назад.
Но оно какое-то неуловимое - мне никак не найти первое упоминание. Хотя первое, всё-таки, у Лебедева. Но мы все время слышим отголоски. Видим отражения в чужом восприятии.
Сперва это ужасная по сути тирада Лебедева, который сравнивает своего племянника с убийцей Жемариных. Да и не сравнивает, а будто прочит и проводит едва ли не аналогию, которую впрочем никак не уловить.
Потом это уже поток сознания князя, который всё многократно перелопачивает и ставит под сомненье в том числе и адекватность самого этого сознания. Но шесть жертв того массового убийства возникают опять в несколько странном ракурсе. Причем, любой, знакомый с реальным уголовным делом, понимает, что имеет место искажение реальности. А дело то освещалось широко, поэтому читатели Идиота в конце девятнадцатого столетия были очень хорошо погружены и воспринимали повествование через вполне определенный социально-информационный код.
Поэтому обрывочные отсылки к тому чудовищному преступлению, видимо считывались относительно изящными и создавали эмоциональный фон, скорее всего, зловещий и тревожный.
Дополняется надвигающейся грозой, духотой, и болезненной фрагментарностью сознания князя, грозящей скорым припадком.
Ну а в действительности 1 марта 1868 года в Тамбове в доме купца Ивана Сергеевича Жемарина было убито шесть человек. Его мать, жена, сын, кухарка, дворник и горничная. Убийцей оказался репетитор Витольд Горский. Почти все жертвы были застрелены из револьвера. На горничной барабан заклинило и он добил её поленом.
Таким образом ни о каких специальных приготовлениях и заказанных по индивидуальным эскизам орудияз убийства речи идти не может. Но это, очевидно, уже и не обязательно. В конце концов, перед нами художественное произведение. Мы имеем дело с игрой отражений - восприятий страшного преступления разными персонажами. Наличие реального прототипа преступления позволяет автору ничего о нем впрямую не рассказывать, используя лишь туманные отсылки. Ну а поскольку текст художественный, ни о какой документальной идентичности ни автор, ни читатель не беспокоится.
Эпилептический припадок главного героя странно синхронизируется с покушением на него Пригожина. Оно вообще довольно странное - будто бы и не заметное. Не только сам процесс "выслеживания жертвы", но и неожиданное нападение - я проскользил как-то, не отдавая себе отчёт, что именно произошло. Припадок, очевидно, спас князя. Да и был ли он вообще случаен? В давешней встрече с Рогожиным так настойчиво акцентируется предчувствие беды. Князь то и дело в разговоре хватается за нож на столе Парфена, а тот не менее настойчиво этот нож отнимает.
Шестая глава второй части. Князь таки-добирается до дачного Павловска. Уже после припадка, но почти поправившись. Ну и вся охапка персонажей тут же мчит к нему засвидетельствовать.
Опять пошла массовка!
Читаю я их расшаркиванья и пытаюсь разобраться - чувства у меня крайне смешанные. Одно чувство, впрочем, посильнее прочих. Драмтеатр!
Автору за какой-то надобностью важно всё время устраивать подобные групповые представления. Что ни сцена, то полный оркестр, рождающий целый взрыв или фейерверк в мозгу. Уследить за каждой такой вспышкой или аккордом все равно невозможно. Каждый уловит свой набор оттенков смыслов и междометий эмоций. Мне точно всё не охватить. Но я хотя бы постараюсь.
Глава 8
Но то ли Фёдор Михайлович меня уже избаловал, то ли я начинаю постепенно привыкать к этим оркестровкам. Однако, сцена на даче Лебедева в шестой (ну и в седьмой) главе второй части мне кажется пустоватой. У иных персонажей типа Варвары, Птицына и т.п. роли совсем номинальные - даже без реплик. За каким лёгким из всех сюда согнали. Каждому (каждой) ведь ещё съемочный день оплачивать, прошу прощения, за мой счёт. Подумаю ещё, зачем эта сцена. Она, кстати, пока продолжается. Вот генерал Епанчин прибыл с новым молодым человеком.
Сейчас седьмую буду читать. Между тем прочитанная Аглаей Епанчиной насмешливая баллада с подменой инициалов открывает нам довольно новую картину. То есть все метания Настасьи Филипповны между Рогожиным и князем - как есть достояние общественности. Ну и одержимость князя в адрес Н.Ф. - пусть и из жалости - также вполне на виду. Вы ещё верите, что это жалость? Я - да. Почему-то верю ему. Хотя он может быть искренен и обманывается в себе - такое ведь бывает.
Интересен ещё акцент на Аглаю. До сих пор мы замечали, что князь испытывает неловкость при педалировании этого имени в его присутствии. Теперь же автор обозначает нам и встречное движение. Это уже явный вызов.
Ладно, договорились, сцена не пустая. Можно заплатить массовке.
Полагаю автор иными картинами мыслить и не представлял как. Встреча с глазу на глаз - вдвоём, как например разговаривали Мышкин с Рогожиным, для него выглядела чем-то из ряда вон. А групповые посиделки - в порядке вещей.
Но вот в конце седьмой главы заваривается что-то совсем интересное. Группа молодых, но не слишком опрятных людей собираются что-то предъявить князю. А рекомендуют их даже не нигилистами, а и того хуже. Кто же может быть хуже нигилистов? Мелькает опять фамилия Горский и вроде как снова отсылка к убийству Жемариных.
Эта встреча снова восхитительна подачей целого букета неловкостей и неуместностей. Ловлю себя на том, что опять откладываю текст в сторону, пытаясь переварить.
Ну как это вообще возможно? Обычными же буквами! Эти все оттенки передать! Да нет, я, по всем приметам, ору! Создать из ничего такой сумасшедший контекст!
Прежде чем сделать ещё пару комментариев относительно этой сцены должен заметить, хоть я и не медик отнюдь. Тем не менее, участие в описываемой сцене больного кхм с открытой формой туберкулёза мне представляется явно чрезмерной экзальтацией. Я бы сказал, что с этим наш многоуважаемый автор явно перегнул. Воздушно-капельным ведь, да в закрытом пространстве, хотя тут открытая веранда вроде бы, но все равно же при отсутствии в те годы эффективной терапии. Следующие действия весь наш оркестр должен был бы переехать и отыграть в чахоточном санатории - тогда ведь принято было туберкулёз лечить "на водах". Это при условии конечно, что настолько т.с. контагиозного пациента вообще впустили бы в чей-либо дом. Да, хоть даже в лакейскую.
Но с этой поправкой, повторюсь, текст хорош! Опять в полный рост расправляется главная воспринимаемая неуместность - экзальтированная "святость" Льва Николаевича - Мышкина, конечно же.
Но и просители, или точнее требователи, в своем неистовом порыве великолепны. Мерзотнее даже сложно представить. Момент разоблачения из заблуждений в истинном отцовстве претендента на княжеские бабки бесподобен. Одна мерзость сменяется новой. Каково это, признать себя обосравшимся поганцем, но с достоинством, точнее, неким модифицированным, рафинированным тщеславием.
Многоголосие этой шоблы при этом неоднородно. Чахоточный вот тоже придает странный колорит, а в прследствии вообще на себя всё внимание стягивает.
Скажите, уже есть такая профессия - сомелье сцен Достоевского? Может быть какие-то курсы или мастер-классы? Я бы поприсутствовал.
Когда же выплывает, что Лебедев поправлял желтушную статью, то действо обретает облик вообще карикатурный. Возможно, сатирический - мне сложно анализировать, хотя, безусловно, идёт неприкрытый троллинг общественных устоев и нравов.
Полагаю, образ Лебедева современникам автора вовсе не казался карикатурным, но очень даже узнаваемым.
Но и постоянно укрепляется "юродивый" образ князя. Его подобие Иисусу уже декларируется, как признанное. Не верите? А вот, прошу вас, полюбопытствуйте, есть иллюстрация:
" — Низок, низок! – забормотал Лебедев, начиная ударять себя в грудь и всё ниже и ниже наклоняя голову.— Да что мне в том, что ты низок! Он думает, что скажет: низок, так и вывернется. И не стыдно тебе, князь, с такими людишками водиться, еще раз говорю? Никогда не прощу тебе!— Меня простит князь! – с убеждением и умилением проговорил Лебедев."
Ну как, ничего не напоминает?
Деяния 2:38: «Петр же сказал им: покайтесь, и крестись каждый из вас во имя Иисуса Христа, для прощения грехов, и получите дар Святого Духа»
Ну или похожий контекст из писаний - созвучия слышатся отчётливые. Исполнено, на мой взгляд, довольно ловко.
Глава 9
Ипполит - этот туберкулёзный пациент - мне ещё покоя не даёт. Зачем он здесь? Да ещё так явно противопоставлен князю. Уж слишком символическая у него роль. Во всех смыслах, да. То есть и не большая, и со значением. Персонаж -то он явно искусственный. Человек, которому жить осталось пару понедельников, прётся с какими-то оборванцами отстаивать сомнительное право одного из них на материальную помощь сиятельного господина. Не говорю уже, что выглядит всё это как афёра, ну или мошенничество группы лиц по предварительному сговору. Но, что есть, то есть.
Пока давайте отвлечемся от символики и от скрытых мотивов автора. Давайте читать персонажа, как есть. Представим, что с правдоподобием здесь всё ОК - такой вот человек. Какой же он?
Ипполит мне показался несчастным - как и всем, наверное. Может ли показаться счастливым молодой ещё человек, умирающий с открытой формой туберкулёза. Скажете, спасибо, кэп? Он довольно специфически несчастен. Он из тех людей, которые несчастье своё капитализировали и продолжают над этим работать. Создаётся впечатление, что его болезнь - единственный его стоящий актив. И он это осознаёт, или уже осознал. Так что этот актив он оберегает и не отдаст даже очень за дорого. Но предъявляет всякий раз - в нём-то и есть весь его вес, вся смерть Кощеева.
При этом он вроде бы не совсем потерян для общества. Автор не махнул на него рукой. Даже для такого рядом со светлейшим князем есть место и путь к исправлению. Я бы назвал этот контекст наиболее евангелическим что ли. По крайней мере, пока.
Рядом с князем многие персонажи хотят и делают реальные попытки стать лучше и чище. Для некоторых видимо это становится невыносимым, но об этом позже, пока только предположения. Такое программирование между строк считывается, наверное, с самых первых страниц романа. И я, похоже, вместе с автором верю, что это работает. Возможно, не совсем так, но подобным образом.
Совсем другое дело, как к этому относиться в литературном высказывании. И здесь у меня не все так однозначно. Усматриваю ли я в этом избыточный нравоучительный подтекст? Я бы сказал, что количество подобных эпизодов обретает некую критическую массу, так что формальный подтекст становится одной из доминирующих идей.
Интересно. Я вообще против назидательного тона и откровенного морализаторства, но в данном случае у меня никаких претензий - мне всё нравится. Возможно, от того, что здесь нет ни того, ни другого. Фёдор Михайлович замечательно обходится без какой-либо вербализации тысячелетних истин, но аккуратно демонстрирует благодетельное преображение сущего.
Между тем вторая часть подбирается к завершению, а читатель так и не дождался появления вожделенной Н.Ф. Я скучал, а вы? Такую ведь приманку расположил, а не подпускает - это я об авторе. Он ведь в том пуританском обществе своей фабулой такой фитилёк для многих страждущих поджёг. Кто внешне себе не позволял, а кто и вовсе помыслить опасался, а тут на страницах многоуважаемого вроде бы и легитимно и не срамно - высокая литература. Хоть и на поверку секс символ, но и не явленный воочию. Для того времени и букв аккуратных было, видимо, довольно. Мы хоть и привыкли уже к более откровенным сценам и разоблачениям, но магия Достоевского и меня цепляет и заставляет размышлять об Настасье Филипповне, отбросив всякие литературные условности.
Но нет не всю вторую часть. Лишь краешком поманил нас автор - из какого-то лихого экипажа бросила столь провокационную фразу в адрес Евгения Павловича. Это, напомню тот, который на Аглаю Епанчину свой прицел навёл, ну или как это в те годы называлось. И шуму-то эта фраза наделала. Ах боже мой! Неужели Евгений Павлыч расписывался собственноручно на ростовщических векселях?! При его-то состоянии?! И целый визит incognito был предпринят князем Щ. к нашему князю по этому поводу. В общем страсти и интриги не совсем нам теперь понятные, но крайне любопытные. Такая вот Н.Ф., вроде, и отсутствует, но создаёт волнения.
По линии князь Мышкин - Аглая Епанчина назревает заметная напряжённость. Особенно этот нерв автор подчеркивает на стороне князя. Он нервно реагирует, на связанные с Аглаей темы в разговорах, запрещает Лебедеву даже упоминания о ней. Он словно страшится чего-то неотвратимого.
Мы уже знаем, что в романе герой наделён определенным предвидением. Для святых это же нормально, да? Таким образом ещё более электризуется энергетический клубок между этими двумя. Автор вне всякой сомнения готовит нам самую мощную романтическую линию, а может быть и единственную, которую можно было бы назвать романтической в полной мере.
Очень любопытно осознание героем нового чувства (ведь оно же новое для него?), и как он его охарактеризует. Как-то незаметно за всем этим многоголосием началась третья часть романа - всё там же в Павловске. И уже седьмая глава - боже!
Ипполит является на стихийно организовавшуюся вечеринку по поводу дня рождения князя и терроризирует общество своей таинственной писаниной. Признаюсь, мне уже многовато Ипполита Терентьева. Начинаю ощущать явный передоз.
Мнится мне, что он лишь прикидывался по воле автора не лишенным надежды на спасение. Он всё-таки патологически деструктивен, хоть и способен на организацию добрых дел в порядке индивидуальной милостыни - по его же выражению.
За излияниями Ипполита мне начинает мерещиться разговор о праве приговоренного на более скорую смерть по собственному выбору. Ну, или, если угодно, о праве смертельно больного на эвтаназию.
С одной стороны его это несколько роднит с историями князя о муках приговоренного к расстрелянию, которому отмена казни не отменит уже перенесенного.
А с другой стороны эвтаназия - похожий контекст. Не забываем, откуда приехал князь Мышкин. Не оттуда ли он привез и свое сострадание?
Возможно ли вообще столь циничное прочтение Достоевского в две тысячи двпдцать пятом? В том смысле, позволительно ли?
Впрочем, официально организации, практикующие ассистированное самоубийство появились в Швейцарии двумя столетиями позднее. Затрудняюсь оценить вклад Фёдора Михайловича в эту достаточно спорную прикладную реализацию сострадания. Однако, исключить, что апологеты движения были знакомы с произведениями Достоевского, конечно же нельзя.
Да, похоже в седьмой главе третьей части мы имеем дело с прообразом ассистированного суицида. В крайне беллетризованном и литературно декорированном варианте по форме, но по сути все к этому идет.
Я, правда, ещё не дочитал, но впечатления тягостные. Но пусть, я даже верю, что из человеколюбия и сострадания можно и должно дать ему выговориться, хоть речи его мало кому будут впрок.
Хочу здесь отметить, что я горячо за высокую цену жизни и не менее высокую цену смерти в литературных произведениях. В данном случае цена на должном уровне и читатель ее платит сполна.
Глава 10
Ещё одно наблюдение из разряда тревожных. Роман перевалил сильно за середину, а романтические линии кажутся слегка заброшенными. Ну и вообще меня страшит приближающееся окончание. Боюсь, что всё слишком неожиданно закончится, а мне не хватит.
Мне бы только через Ипполитово словоблудие продраться. Достаточно ли я сострадателен для этого? Уже не уверен.
Упс, виноват, поправлюсь. Ассистированный суицид обернулся провокацией, хотя нельзя конечно утверждать однозначно, но юноша всё-таки смертью своей надвигающейся дорожит изрядно, чтобы вот так её в расход пустить, хоть и при значительном стечении народа. Что ж психологический портрет прозвучал исчерпывающим, но утомительным.
Только что намекнув и зародив романтическую линию между князем и Аглаей Епанчиной, почти тут же - с поправкой на обстоятельность, то есть пару десятков страниц, автор разрушает все надежды на развитие в этом направлении. Очень кстати яркая картина даётся в письмах Н.Ф. к Аглае. Иисус с маленьким ребенком. Похоже, к этому моменту святость князя уже канонизирована.
Здесь, правда, Фёдор Михайлович уже вовсю пускается растолковывать мне своих героев и их мотивы. Хотя стремления Н.Ф. к устройству союза князя и Аглаи несложно было расшифровать ещё момент нападок Н.Ф. на Евгения Павловича - главного претендента.
В этом, наверное, много художественно достоверного. Н.Ф. неосознанно (или осознанно - не важно) копирует ход своего покровителя совратителя Троцкого. Для нее он - видимо, единственная мужская фигура в процессе взросления. Да конечно она до сих пор под его ментальным влиянием. Это удачно написано, в это легко верится.
Впрочем, письма Н.Ф. к Аглае мне все равно симпатичнее, чем клятвенные монологи на могилах безвременно ушедших возлюбленных (или родителей), как это модно было одно время у Голливудских сценаристов.
К концу третьей части я начинаю замечать, что наряду с общим восхищением полотном романа в целом у меня постепенно накапливаются и некоторые разочарования. Им, наверное, придется посвятить отдельную главу. Сейчас же о самом главном из этого ряда.
Центральным конфликтом романа автор выбрал отношения князя Мышкина и Настасьи Филипповны. При этом основной период развития этих отношений, в том числе недолгий срок их сожительства, остаётся за рамками повествования. До читателя доносятся лишь обрывочные упоминания, реминисценции, искаженные игрой эмоциональных отражений того или иного героя.
Мой главный вопрос: "А это вообще законно?"
Мне откровенно мало в кадре Настасьи Филипповны. Их короткая случайная встреча с князем в парке - вообще сплошное разочарование. Мы вдруг понимаем, что эти двое в своих взаимоотношениях прошли такую громадную дистанцию. Нам же предлагается довольствоваться малым. Собственно результатом - строить догадки, дорисовывать: а что же гений хотел нам этим сообщить? Гений, кстати, без иронии.
И вот в первой главе последней, четвертой, части следуют уже прямые описания и объяснения героев. Мало того, здесь художественное повествование оборачивается уже своего рода литературоведческим эссе. Гоголь Николай Васильевич поминается, и персонажи его анализируются. Даже выносятся на читательский суд, ну или, по крайней мере, обсуждаются писательские задачи и подходы. Одним словом, неожиданный и интересный ракурс. Хотя уж точно не единожды за время чтения у меня возникал вполне естественный вопрос. Я даже со временем устал и перестал его задавать. Где-то после заголовка приписал себе мысленно в качестве дисклеймера: "Да, и так тоже можно."