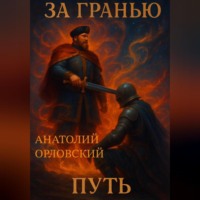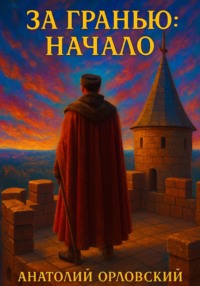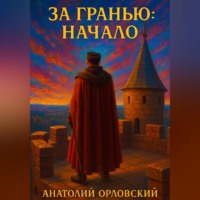Полная версия
За гранью: путь
Ощущение было странным. Как будто кто‑то толкнул телегу сзади. Лошадь даже чуть споткнулась от неожиданности: её на секунду обогнало нечто, что раньше только она тянула. Телега мягко, но заметно пошла вперёд. Я видел, как ниточки силы внутри артефакта выпрямляются и уходят обратно в ось, снова вращая колёса – только уже не за счёт мускулов.
Мы с Ольгердом переглянулись.
– Работает, – сказал он сухо.
– Пока – работает, – поправил я. – Нам нужно испытать это на разных грузах, на разных дорогах, на грязи, на склонах, под дождём. И смотреть, где она рвётся.
Магистерий требовал от нас как раз этого: не восторженных криков «ура, чудо», а подробного описания, где артефакт вел себя нормально, а где хотелось бросить его в реку.
Мы начали вести дневник. Каждый выезд, каждая небольшая поломка, каждое странное ощущение. Лошадь, которую мы использовали первой, получила кличку Искра – не из‑за огня, а из‑за того, что именно она первой почувствовала на себе магическое «подтолкновение».
Шло время. Мы писали отчёты, дороги всё больше покрывались камнем, в тавернах Греты и у переправы зажигали огонь по вечерам, приезжие крестьяне из Кригшталя всё чаще спрашивали, можно ли у нас остаться на зиму. А у меня в руках копился всё более толстый тубус с бумагами для Магистерия. В один из дней, когда очередной курьер приехал забрать отчёты и передать мне новый свиток, он сказал:
– Ваши записи читают вслух в зале Совета. Некоторые спорят, некоторые смеются, некоторые ругаются. Но все слушают. Это редкость.
Я только кивнул. В зале Совета я пока не был и, если честно, не слишком стремился туда попасть. Пусть пока наши дороги и наши артефакты говорят за нас.
Со временем стало очевидно: наш тракт начал жить собственной жизнью. Таверны, сторожевые башни, дорожные артели, телеги с магическими камнями на осях, чужаки, идущие от Людвига, чтобы остаться у нас.
Там, где раньше по неделе можно было не встретить ни одной повозки, теперь каждый день кто‑то ехал. Кто‑то вёз соль с севера, кто‑то – ткани с юга, кто‑то – вино, кто‑то – кожу. На перекрёстке двух дорог, где раньше стоял только старый обугленный дуб, теперь выросла новая таверна с яркой вывеской, на которой был нарисован каменный мост. Люди стали называть это место просто: Мостовая.
Вместе с потоком людей и товаров шёл поток монет. Наши сборщики пошлин уже не сидели на воротах, считая каждую телегу, как редкость. Теперь им приходилось работать, как мельничному колесу. Но работа была понятная, прозрачная. Купцам, въезжающим на наш тракт, называли твёрдую сумму: столько за повозку, столько за лошадь, столько – за особое сопровождение, если нужно. Они видел, за что платят: дорога под колёсами была твёрже, чем у соседей, стража – внимательнее, чем раньше, таверны – чище.
Я, как человек, который привык думать цифрами, видел в этом не только красивые картинки. В отчётах Ханса количество монет, пришедших в казну «от дороги», росло медленно, но уверенно. Эти деньги шли на выплату жалованья тем же дорожным артелям, на содержание стражи, на оплату тех самых магических экспериментов с повозками, которые потом должны были сделать дорогу ещё более привлекательной. Часть уходила в сторону королевской казны, как и положено. Но то, что оставалось, становилось тем жирком, который позволял нам не резать скотину ради каждого непредвиденного расхода.
И всё время где‑то внутри звучала одна и та же нота: впереди – разрывы, демоны и та большая беда, которая ещё только разворачивается. Но пока она не пришла к нам, мы успели выпрямить спину. Теперь, когда этот удар всё‑таки прилетит, мы встретим его не глинистой ямой и разрозненными хижинами, а более‑менее выстроенным домом, где хотя бы есть, что защищать.
И ещё одна мысль не давала мне покоя.
У Людвига в эти дни по‑прежнему трещало. Люди от него тихо стекались на наши дороги. Кто‑то оставался по дороге, кто‑то шёл дальше – к Мельцу, к герцогским землям. Шайки, бежавшие от наших виселиц, пытались найти себе новую жизнь у него. Купцы, уставшие от его поборов и разбоя, перенаправляли свои телеги.
Я не пытался его добить, я просто перестал подставлять плечо, на которое он мог бы свалить свои проблемы. И в этом тоже был порядок. Каждый отвечал за свой дом. Я отвечал за свой так, как считал нужным.
А мир тем временем готовил нам новые испытания – и новые предложения. Магистерий шептал о больших проектах. Король строил планы насчёт совместных походов. И дорога, которую мы выложили камнем и кровью, рано или поздно должна была стать не просто торговой артерией, но и тем самым путём, по которому придут и помощь, и беда.
Глава 3 Те, кто встанет стеной
Когда дорога стала твёрдой, а таверны – тёплыми, стало ясно: мы вплотную подходим к следующему шагу. Всё, что я делал до этого – фермы, кузницы, теневая стража, магоповозки, камень на тракте, – было подготовкой к одной простой, неприятной истине: в какой‑то момент к нам придут не купцы и не беженцы. Придёт война.
Не обязательно сегодня. Не обязательно через месяц. Но она уже шла по миру, как медленный пожар где‑то за горизонтом. И мне не хотелось, чтобы в тот день, когда она вспыхнет в наших лесах, я стоял на стене с жалкой сотней бойцов и всем своим хозяйством за спиной.
Мы с Таргом, Рупрехтом, Хансом и Конрадом в тот вечер сидели до темноты. Свечи догорели до половины, воздух в зале был тяжёлый – смесь пота, воска и старой бумаги.
– Пятьсот, – сказал я наконец вслух, как будто сам до этого числа только что дошёл. – Нам нужно порядка пяти сотен людей под оружием. Не только стража и гвардия, а полноценный полевой кулак.
– Те, кто будут стоять на заставе со стороны орочьих земель. И те, кто смогут двинуться туда, где прорвёт.
Тарг откинулся на спинку стула. На лице у него мелькнуло одновременно и удовлетворение, и тревога. Как у плотника, которому заказали большой дом: работа – мечта, но и забот будет по горло.
– Пятьсот много, – сказал он. – Но мало. Если демоны прорвутся, и орки не удержат, нам и тысячи покажется мало.
– Если же не прорвутся, пятьсот мечей – это уже сила, с которой будут считаться соседи. И король, и Мельц, и тот же Людвиг, если он ещё не сойдёт с ума окончательно.
– Людвиг уже на пути, – буркнул Рупрехт. – По слухам, он вешает теперь даже тех, кто просто косо посмотрел.
Ханс не вмешивался в разговор о числах мечей. Он сидел с пером в руке и пытался прикинуть, во что выльется содержание пяти сотен ртов, не занятых пахотой и кузнёй.
– Пятьсот – это не только мечи и латы, – напомнил он. – Это хлеб, мясо, сапоги, плащи, стрелы, бинты, кони, корма. У нас сейчас есть запас прочности. Но это число будет его границей. Выше – начнём проедать будущее.
Я кивнул.
– Поэтому и пятьсот, а не тысяча, – ответил я. – Нам нужен кулак, который не разорит руку.
– Начнём с этого числа. Как будем жить через год‑два – посмотрим по урожаям, по дорогам, по артефактам и по тому, что будут делать демоны.
Мы обсудили, где разместить людей. Часть – в городе, в казармах при замке. Часть – на будущих пограничных заставах. Часть – в ключевых деревнях, которые уже давно работали как опорные точки.
Вопрос стоял не только в том, сколько набрать, но и в том, откуда их взять.
Объявление набора в войско – это не просто «снимите объявление на воротах». Это знак. Для крестьян – что барон собирается всерьёз готовиться к беде. Для мелких дворян – что можно получить шанс отличиться. Для купцов – что станет безопаснее, но дороже. Для соседей – что у нас есть амбиции.
Я долго думал, как именно это сделать. Орать на площади «всем в строй» было глупостью. Давить повинностью – тоже. Время бездумных ополчений прошло. Нам нужны были не те, кого едва оторвали от плуга, а те, кто может стать настоящим бойцом.
Мы начали с послов. Я отправил по деревням гонцов не только с бумажками, но и с устным словом. В каждом селе, в каждом хуторе, в каждой артели нужно было не просто зачитать «указ», а объяснить: барон набирает не пушечное мясо, а людей, которых собирается кормить, обучать, одевать и уважать.
Я дал право старостам рекомендовать тех, кого они считают годными. Это было важно: если деревня сама скажет «вот, возьми этого, он нам не враг», то и конфликтов будет меньше. Принудительный набор врагов никого ещё хорошему не учил.
Объявление было простым. Любой свободный мужчина от шестнадцати до тридцати пяти лет, не имеющий серьёзных долгов чести или крови, мог прийти на сборный пункт – в Рейхольме, в Мельничном, у каменоломни. Там его осмотрят, проверят, запишут. Условие: первый срок службы – три года. Жалованье – не только монетой, но и пайком. Семьи тех, кто идёт в войско, получают небольшую скидку по податям, пока их муж, сын или брат служит.
К этому добавили ещё одну вещь: я разрешил бывшим воинам и стражникам, которые ушли со службы по уважительной причине, возвращаться – даже если у них был тяжёлый разговор с прежними начальниками. Главное, чтобы у них не было за спиной настоящей подлости.
Отдельной строкой шли перебежчики из Кригшталя.
Про Людвига мы в те дни узнавали больше, чем хотелось бы. Вести приходили отовсюду: от купцов, от беженцев, от теневой стражи, от людей Мельца.
Картина вырисовывалась невесёлая.
После того, как король объявил чрезвычайный сбор, Людвиг, по слухам, вскрыл все сундуки, но вместо того, чтобы резать свою роскошь и договариваться с купцами, просто вдвое поднял подати. Пахари у него платили, как никогда, но платить им уже почти было нечем. Урожаи снизились, часть людей ушла в леса. На фоне слухов о демонах он продолжал гнать отряды к орочьим землям – за добычей, как он думал. На деле всё чаще – за гробами.
Пока у нас разбойные шайки либо уходили, либо шли под прут и потом под мою руку, у него разбой начинал зреть изнутри. Брошенные, обиженные, напуганные люди группировались сами по себе. То тут, то там вспыхивали мятежи: то отбили у него обоз с налогом, то разогнали малый стражевой пост.
Гвардия, усталая от бессмысленных вылазок, смотрела на хозяина всё более мрачно. Часть младших офицеров, по слухам, пыталась донести до него, что продолжать войну с орками – значит стрелять себе в живот. Людвиг реагировал, как реагируют трусы, прижатые к стене: жестокостью. Несколько людей он казнил показательно. Одного – прямо на плацу, в присутствии всего отряда.
После этого трещина в его доме превратилась в пролом.
В один из холодных, ветреных дней, когда у нас на тракте уже вовсю катались повозки с углём из новой выработки, ко мне прибежал Рупрехт. Лицо у него было напряжённое, но внутри этой напряжённости плясало странное облегчение.
– У ворот, – сказал он, – отряд. Человек семьдесят. В форме, но без флага. Говорят, хотят говорить только с тобой.
Я спустился во двор. Перед воротами, на открытом месте, стояла колонна людей. На них было видно: ещё вчера они были гвардейцами. Кольчуги, пусть и потертые. Щиты, мечи, копья. Лица у одних – молодые, у других – уже с морщинами. У всех на плащах – сорванные нашивки. На месте эмблем Людвига – пустые дырки.
Вперёд вышел мужчина лет под сорок. Седина уже пробивалась в бороде, глаза были усталыми, но ясными.
– Барон Ардель, – сказал он, чуть склонив голову. – Я – Герхард из Кригшталя. До вчерашнего дня – капитан второй сотни гвардии Людвига.
– Сегодня, если позволишь, я – никто. И вместе со мной – семь десятков таких же «никто».
Я молча смотрел на них. Внутри меня что‑то ёкнуло. Это был поворот, которого я ждал, но не рассчитывал, что он случится так скоро и в таком масштабе.
– Почему? – спросил я. – Почему вы здесь, а не там?
Герхард усмехнулся уголком губ.
– Потому что я устал убивать ради его прихоти тех, кто не угрожает моему дому, – ответил он. – Потому что я устал смотреть, как он вешает своих за то, что они осмелились сказать, что демоны опаснее орков.
– Потому что вчера он приказал мне повесить моего собственного племянника за то, что тот отказался идти в третий поход на орочье село за месяц.
– Я отказался выполнить этот приказ. Он вызвал палача. Я вывел людей из строя и ушёл.
Он сказал это спокойно, без пафоса. Просто констатация факта.
– И теперь, – продолжил он, – у меня есть меч, есть люди, и есть барон, которому я больше не служу. Я слышал, что ты не вешаешь всех подряд за то, что они сказали слово поперёк. Я слышал, что ты платишь тем, кто тебя защищает. Я слышал, что ты не гонишь людей на смерть ради чужого кошелька.
– Я пришёл спросить: найдётся ли у тебя место для нас?
Я выдержал паузу. Не для эффекта, а потому что внутри всё кипело от мыслей.
С одной стороны – это был подарок судьбы. Сразу семь десятков обученных людей, проживших не один бой. Это не деревенские парни, которым надо сначала объяснить, с какой стороны держать щит. Это готовый каркас для нового войска.
С другой стороны – это люди, привыкшие подчиняться другому хозяину. Люди, у которых за плечами были, возможно, дела, которые мне бы не понравились. Люди, которые пришли не из любви ко мне, а от ненависти к прежнему. Это очень разные мотивации.
Я подошёл ближе.
– Ты понимаешь, – сказал я ему, – что Людвиг объявит вас изменниками. Что, если когда‑нибудь придёт час суда, ваши имена будут у него в списках тех, кого он хочет видеть на виселице?
– И, если король вдруг решит поддержать его, всё может стать сложно.
Герхард фыркнул.
– Если бы короля по‑настоящему заботило то, что творится в Кригштае, он бы давно уже прислал туда кого‑нибудь поумнее, чем сборщики податей, – сказал он. – Но король молчит. Демоны далеко, налоги идут. Его всё устраивает.
– А Людвиг… – он на мгновение сжал кулаки. – Людвиг давно сошёл с ума. Может, когда‑нибудь кто‑нибудь это ему скажет. Может, ты. Я не знаю.
– Сейчас я знаю только одно. Я не вернусь к нему. И мои люди – тоже. Лучше умереть под стенами другого замка, чем на его дереве.
Я посмотрел ему в глаза и понял: он не врёт. По крайней мере – в главном.
– Ладно, – сказал я. – Я не настолько глуп, чтобы отказывать тому, кому уже сам его барон показал, что он ему не нужен.
– Но и не настолько наивен, чтобы тут же поставить тебя командовать своей гвардией.
Я обернулся к Таргу.
– Ты возьмёшь их к себе в полк, – сказал я. – Распределишь по отделениям так, чтобы ни одна из семёрок не держалась только за своих. Попросишь старших своих людей присмотреть.
– Герхарду дашь взвод, не больше, пока что. Посмотришь, как он ведёт себя под твоей рукой, а не под чужой.
Тарг кивнул. Он уже смотрел на этих людей с интересом, как кузнец на чужой металл, который можно перековать.
– Жалованье получите такое же, как мои, – добавил я, обращаясь к Герхарду. – Но учти: у нас за воровство из своей казны, за грабёж своих, за пьянство в карауле – не кнут. Виселица. Я не хочу здесь второго Кригшталя.
– Если бы мне этого хотелось, – устало усмехнулся он, – я бы остался там.
Так в нашу гвардию вступили первые перебежчики. Не последние.
После этого потянулись и другие. Малые группы, одиночки, целые семейства. Кто‑то из бывших воинов, кто‑то из старых стражников, кто‑то из обиженных крестьян, которые вдруг узнали, что бывают бароны, приказывающие строить, а не только жечь.
И набор пяти сотен человек, о котором мы говорили в тишине вечера, начал складываться, как домино, по которому прошла рука.
Как только мы всерьёз объявили набор войска, в кузницах стало ещё громче. Молот Лотара и его учеников не умолкал почти ни днём, ни ночью. Поначалу я боялся выжать людей досуха. Но, к удивлению, они сами шли на дополнительные смены.
– Это не только ваш набор, барон, – бурчал Лотар, вытирая с лба пот, когда я как‑то вечером зашёл к нему. – Это и наша работа. Не будет нормальных мечей – ваши новые воины только тяжесть таскать будут.
Мы заранее составили список: сколько нужно копий, сколько щитов, сколько мечей, сколько шлемов и хотя бы простых кольчуг. Не для всех сразу – часть будущего войска должна была первое время обходиться и старым вооружением, но костяк – гвардия и те, кто пойдёт на заставы, – должен был быть одет и вооружён по‑новому.
Новые молоты, к нашему счастью, уже вошли в свой ритм. Кузня у города делала в основном оружие: копья одинаковой длины, мечи одинакового веса, наконечники стрел, ножи. Кузня у деревень – больше сельскохозяйственное, но и там теперь часто звенели заготовки для лат. Кузня у рудника давала заготовки металла.
Мы ввели стандарты. Не на бумаге – в металле. Копьё – не «примерно столько», а ровно столько‑то локтей, с таким‑то балансом. Щит – не из любых досок, а из определённых пород. Ханс и Лотар поначалу ругались: один говорил о себестоимости, другой – о надёжности. В конце концов нашли среднее, которое не вгоняло нас в нищету, но и не ломалось от первого же удара топорика.
Под шум набора войска шли и другие перемены.
На границе со стороны орочьих земель выросли первые заставы.
Я долго перечёркивал карту, прежде чем остановился на варианте, который не вызывал у меня отвращения. Хотелось и контролировать границу, и не стоять у самых орочьих костров. Я видел, как дерутся орки с демонами, и понимал: спешить туда с песнями – значит подставить людей под то, к чему мы ещё не готовы.
Поэтому заставы мы ставили не на самом рубеже, а чуть в глубину. Так, чтобы от каждой до границы можно было дойти за день‑полтора, но при этом, если демоны прорвутся сразу и мощно, у заставы было время на манёвр, на сигнал, на сбор.
Первая застава выросла на холме у старой просеки, через которую когда‑то ходили охотники. Мы вырубили вокруг кустарник, чтобы дать обзор, вытащили из каменоломни большие блоки, сложили низкий, но крепкий стеновой круг. Внутри – сторожевая башня, казарма, склад, колодец. На башне – сигнальный костёр, который в случае беды должен был рвануть в небо.
Вторая – у брода через небольшую, но коварную речку. Там было важно не столько держать демонов, сколько следить за тем, чтобы никто не воспользовался переполохом и не полез с той стороны – будь то бандиты или отчаянные отряды Людвига, если ему стукнет в голову устроить набег в нашу сторону.
Третья – ближе к дороге, соединяющей нас и Мельца. Сосед наш был, в общем, разумен, но иметь точку, через которую можно быстро обменяться вестями и людьми, было не лишним.
На каждую заставу мы выделяли по полусотне людей. В их число входили и старослужащие, и новые. Поначалу, конечно, там было пустовато, не хватало привычки, не хватало уюта. Но очень быстро вокруг застав начали обживаться мелкие огороды, курятники, а где‑то – даже маленькие семьи. Воины, которые понимали, что будут служить здесь долго, тянули женщин, детей. Так вокруг голых зданий постепенно появлялась жизнь.
Я часто ездил к ним. Не как большой господин с проверкой – скорее как человек, который хочет видеть, чем дышат те, кого он отправляет первым встретить беду. Слушал жалобы на то, что ветер с холмов продувает казарму, на то, что в колодце вода чуть солоновата, на то, что в ночи иногда слышится такой вой, что хочется забиться под кровать.
Я не говорил: «Ну потерпите». Мы утепляли, углубляли, ставили дополнительные заслоны. Если уж я решил строить эти зубцы на краю своих земель, то обязан был сделать так, чтобы зубцы не крошились от первого же стужи.
Пока на границе росли заставы, в глубине баронства зрела другая революция – тише, но, возможно, ещё важнее. Наши первые самодвижущиеся телеги, созданные вместе с Магистерием и испытанные на тракте, показали себя не только как помощь лошадям. Они открыли дверцу к тому, о чём я мечтал с самого начала: разгрузить человеческие руки там, где вместо них могла работать сила.
Повозки работали по простому принципу: пока они ехали под тягой, часть движения запасалась в артефакте, потом по команде возвращалась, помогая. На дороге это было подспорьем. А в поле…
Я помню тот день, когда мы привезли одну из таких повозок на ферму. Эрнст, узнав, что я хочу её «загнать в грязь», криво усмехнулся.
– Ты и так пол‑баронства вверх ногами перевернул, – сказал он, перекидывая через плечо мешок. – Теперь ещё и телеги заставишь пахать?
– Не телеги, – ответил я. – Силу.
Мы модифицировали одну конструкцию. Сняли платформу повозки, на её место прикрутили массивную балку, к которой цеплялся плуг. Артефакт подключили не к задним колёсам, а к специальному валу, который через шестерни крутил бы колёса больше диаметром – грубо говоря, мы сделали первый примитивный трактор. Простой, как бревно, но… рабочий.
Конечно, одним артефактом поле не спашешь. Мы не могли позволить себе гонять его до изнеможения. Но идея была в другом: часть тяжёлой работы по разрезанию земли на глубину теперь брала на себя не шея быка, а кристалл, который крутился, словно в нём сидел маленький дух движения.
Мы выбрали небольшой участок поля – не самый сложный, но и не самый лёгкий. Марта и ещё двое молодых магов стояли рядом, должны были в случае чего быстро заглушить артефакт, если тот взбесится. Эрнст, ворча, взялся за рукояти плуга. Я взял на себя управление телегой.
Первый рывок был странным. Колёса заворочались, лопасти плуга вошли в землю. Лошадей на передке было всего две, не четыре, как обычно. Но телега тащила плуг так, как будто за нею стояли минимум четыре пары. Артефакт заворчал, почувствовав нагрузку, ниточки силы в нём закрутились плотнее. Марта тихо прикусила губу, следя, чтобы они не выскочили наружу.
– Держится, – крикнула она. – Можно ещё.
Мы прошли первую борозду. Эрнст, который сначала готов был в любой момент отпрыгнуть, в какой‑то момент даже отпустил рукояти на секунду и снова ухватился, убедившись, что плуг не улетает в небо. Земля за плугом была перевёрнута глубже, чем от обычной тяглы, а пот лошадей лился не рекой, а ручьём.
– Если так пойдёт и дальше, – сказал он потом, опершись на колено, – мы сможем сэкономить десяток быков на каждую большую ферму.
– А если ты научишь своих бездельников управлять этой штукой, может, они даже перестанут ныть, что спина отваливается.
Первые дни новый агрегат все называли просто «эта чёртова штука». Потом прижилось более ласковое: «толкач», «крутильщик». Мне было всё равно, как его зовут, пока он работал.
Мы не гоняли магоповозки безостановочно. Артефакты тоже нуждались в отдыхе. Но даже если один такой плуго‑толкач мог в день вспахать на треть больше, чем традиционная упряжка, это уже было чудом. Особенно в преддверии времён, когда нам предстояло кормить пять сотен новых ртов, не уменьшая пайку остальным.
Ту же схему мы начали переносить и на другие работы. В каменоломне один из артефактов поставили на подъёмник. Раньше четыре человека или двое лошадей крутили барабан, поднимая наверх тяжёлую глыбу. Теперь, если барабан приводился в движение заранее, часть этого движения запасалась, а поднимая камень, мы могли включать артефакт – и работа шла легче.
На лесопилке один из опытных мастеров – упрямый, но любопытный – согласился попробовать подключить магический вал к пиле. Пока получилось грубо: пила дёргалась, иногда заедала. Но я видел, как в его глазах, помимо разрушенных привычек, загорается интерес.
– Если это будет пилить, как ты хочешь, барон, – сказал он, – мне придётся увольнять половину своих пьяниц.
– Хотя, может, это и к лучшему. Выпивших меньше – досок больше.
Всё это требовало времени, нервов, поправок. Но итог был одним: чем больше магия брала на себя грубую, однообразную тягу, тем больше людей можно было перекинуть туда, где нужна была голова и сердце, а не только спина. На дорогу, в кузни, на заставы, в гвардию.
Как будто в награду за всё это, земля в какой‑то момент решила улыбнуться. Или, может, просто показала то, что давно в себе таила.
Это произошло почти случайно.
В каменоломне, где мы вели разработки уже не первый год, один из молодых рабочих – паренёк из беженцев Кригшталя – копался в очередном слое, когда его лопата вместо привычного каменного звука встретила что‑то другое. Глухое, ломкое, но не каменное.
– Управляющий! – крикнул он. – Тут… чёрно как в печке!
Когда я приехал туда с Хорном и Лотаром, на обрыве уже зияла тёмная полоса. В рыхлых пластах, перемешанных с глиной и песком, шла плотная, чёрная жила. Стоило к ней прислонить руку, как на пальцах оставалась сажа.
– Уголь, – сказал Хорн, даже не приседая. – И, судя по всему, не поверхностный.
Для меня это слово звучало как музыка. До этого момента мы топили всё: древесный уголь, просто дрова, торф, где было. Настоящий каменный уголь попадался только кусками, привозимыми из других земель по бешеной цене. А тут – своё, в собственной яме.
– Насколько глубоко он идёт? – спросил я.
– Пока не скажу, – ответил Хорн. – Но если слой ровный, а не пятнами, этого нам хватит надолго.
– Главное – не лезть слишком быстро, чтобы не задушить людей дымом.
Мы с Лотаром обменялись взглядом. В его голове уже вертелись мысли о горнах, которые можно будет разогревать сильнее и дольше, не вырубая при этом пол‑леса. В моей – о хлебе, железе и войне.