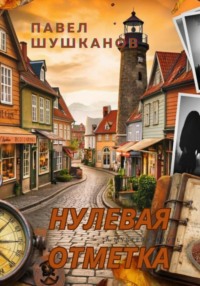Полная версия
Железный гомункул
Комнатой Марана я был разочарован. Немного меньше моей, зато с окном на океан и старый маяк. Из моего была видна лишь оплетенная плющом кирпичная стена Академии. Пыль витала в залитом светом воздухе, висела гнетущая тишина. Констебль унес все подозрительное, оставив лишь книги и пару осколков, забившихся за стол и между досок пола. Выпотрошенное радио тоже забрали, но под полкой все еще валялся клубок проводов. Я отыскал свои книги и торопливо ушел – это место начинало меня тревожить.
В моей комнате и так было немало книг, но всякий смысл в них отпал. Отмененный экзамен не перенесут на более поздний срок, особенно для такого никчемного слушателя как я. До конца месяца я мог наслаждаться уединением в общежитии академии, а потом мне следовало, собрав пожитки и уплатив сбор, отправиться домой на Торту де Рош – невзрачную скалу с таким же невзрачным городом к югу от Архипелага, где среди серых каменных коробочек с плоскими крышами находился и мой дом с офисом на первом этаже.
«Густав, отец очень озадачен твоими сложностями с экзаменом. Мы думаем, что есть смысл на некоторое время оставить вопрос с твоим образованием, пока не утрясутся финансовые дела. Твои братья того же мнения, хотя полностью уважают твой выбор. В любом случае, мы будем ждать тебя. Отцу очень нужна помощь в конторе, особенно после болезни…».
Я ни разу не смог дочитать письмо матери до конца, останавливался на строчках про болезнь. В голове настолько отчетливо вставал образ, уже полузабытый за год учебы, пыльной нотариальной конторы, заваленной папками, превращенной в лабиринт хаотично расставленными картотеками и механическими сейфами с отданными на депозит вещами, что продолжать чтение не хотелось. Что ж, мама – талантливый «дипломат», умело заменила «разочарован» на «озадачен» и ввернула болезнь, имеющую в нашей переписке перманентный характер. Она то усиливалась, то затухала, но окончательно не проходила никогда, что не слишком вязалось с волообразным телосложением и здоровьем отца.
Книги, чертовы книги и чертовы экзамены! Раз за разом я возвращался к ним, рискуя потонуть в полузнакомых терминах на неизвестных языках, никак не подчинявшихся моему ленивому разуму, слишком озабоченному нежеланием возвращаться домой, но ничего не желающему для этого делать. Принесенные от Марана томики я раскрыл наугад, надеясь найти там полезные пометки, может быть, готовые ответы на задачки или даже наброски алгоритмов для арифмометра, но был разочарован. Правда лишь недолгое время, пока листал желтые страницы с подтертыми примечаниями. А потом наткнулся на сложенный вчетверо листок. Удивительно, что его не нашел констебль. Впрочем, скорее всего, так и было задумано. Листок – это бросилось мне сразу в глаза – не был шершавым и толстым из той бумаги, что мы использовали для конспектов. Тонкий белый лист, папиросный. На таких чертили схемы своих механизмов курсисты с инженерного факультета. Лист был почти невесом и неприметен. Ровный и красивый, словно сплетенный из узелков почерк Марана я узнал. Но меня напугало то, что обращался он ко мне.
«Густав. Думаю, ты помнишь меня и мой черновик с ответами к экзамену. Тогда я помог тебе, видя твой потенциал, забитый природным невезением. Думаю, что могу помочь тебе снова, равно как и ты можешь помочь мне…».
Я на мгновение оторвался от записки. Помочь мертвецу. Видимо, он написал ее еще до того, как понял, что умирает или в смертельной опасности – мы так и не узнали причины его гибели. В любом случае, он рассчитывал на мою помощь при жизни. Мог ли я отказать ему, зная, что при любом раскладе помощи моей ему уже не требуется? Дань уважения к человеку, которого недолго я всерьез считал своим приятелем.
«Пусть то, что я напишу дальше не покажется тебе полной ерундой или насмешкой. Поверь, я не из тех, кто способен на жестокие шутки, и думаю, что год под сводами одной аудитории подсказывает тебе это. Просто есть вещи, которых не расскажут ни Керц на своих занудных занятиях, ни профессор Омикрон. До них приходится докапываться самому, собирая по крупицам рассеянные знания под корешками старых книг и среди тех умозаключений, над которыми было принято потешаться, обсуждая лекции наших профессоров. Я нашел кое-что любопытное и делюсь с тобой, потому что, повторю это снова, вижу в тебе потенциал».
На этом письмо не заканчивалось. Дальше была целая инструкция, содержание которой ввело меня в ступор. Он просил найти длинноволновое радио и несколько несовместимых с ним устройств (мягко говоря – позаимствовать их в лаборатории Академии).
«…Тебе понадобится большая реторта или колба и очень много реактивов, довольно редких, но я подскажу, где их достать. Главное, смешать все правильно и дать нужное напряжение на электроды. И не пропустить сигнал, который придет на указанную ниже частоту. Все что произойдет дальше не требует твоего вмешательства, но будь осторожен и точно выполняй инструкции для подготовки. Ты не пожалеешь ни минуты потраченного времени, если сделаешь все правильно. И все время, пока в реторте будет зарождаться механический демон, не пей вина и не кури конкордийских сигарет, иначе все будет напрасно. С уважением и пожеланием удачи, Маран!»
Наверное, любой из тупоголовых курсистов немедленно выкинул бы листок или, что хуже, побежал бы с ним к констеблю или профессорам. Я не сделал ни одного, ни другого. Опустившись на узкую кровать, заправленную колючим пледом, я перечитывал ее снова и снова. Определенно, Маран был сильно болен и болезнь заставляла его писать эти странные вещи. Первым моим порывом было вложить пергамент в мой пухлый дневник, как память о единственном, пусть и ненастоящем приятеле, и оставить его там бумажным обелиском. Но в самый разгар раздумий, тихо постучав в дверь, вошел Керц. Я торопливо сунул листок под подушку.
– Густав, я наслышан, что вы немного общались с Мараном и понимаю, что вам сейчас тяжело, как и всем нам. Я вполне пойму, если вы решите вернуться домой, но, если ваше состояние позволит вам прийти на экзамен послезавтра во второй половине дня, я приму его.
Я не поверил ушам, но вида не подал. Только рассеянно кивнул и поблагодарил за еще одну возможность.
– Тогда желаю вам удачи и надеюсь, что оставшееся время будет достаточным для подготовки.
Он ушел, а я немедленно извлек гладкий листок из-под подушки и снова уставился на ровные буквы. Как и любой неудачливый и малоспособный ученик, я был суеверен. И твердо решил, что Маран, и его записка принесли мне удачу. Что же я теряю, если выполню все по незатейливой инструкции?
***
Приход Анны никак не помешал моим планам. Она всегда была тиха и незаметна. Иногда, видя, что я занят учебой или перебором своих немногочисленных вещей, она садилась у окна и спокойно читала, стараясь не отвлекать меня по пустякам. А порой, видя, что я не в духе, так же незаметно уходила. Но в большинстве дней она была приятным отвлечением от серой повседневности. В отличие от однокурсниц, а Анна училась на старшем курсе и имела специальность, в отличие от меня, что иногда меня смущало и злило, Анна не старалась преуспеть сразу во всем. А потому самые приятные вечера мы проводили за парой стаканов эля или конкордийского розового вина, обсуждая зарождающиеся и с такой же легкостью разбивающиеся, словно соляные кристаллы в колбе, романы на курсе или рассеянность профессора Омикрона. Сложно сказать, связывала ли нас дружба или что-то большее. Иногда мы целовались, будучи пьяны и раззадорены полупошлыми разговорами, а иногда всерьез обсуждали с кем и когда каждому из нас следовало бы начать отношения.
– У тебя новый курс? – Она смотрела на то, как я возился с проводами и тихо ругался, когда вырвавшаяся из обмотки медная проволока протыкала кожу. Я не ответил, только кивнул в знак приветствия. Она пожала плечами и достала альбом. Иногда она рисовала, высунув кудрявую голову из окна, и солнце грело ее веснушки.
– Слышала, что Керц дал тебе еще шанс. Это здорово! – Еще попытка. После второй она всегда замолкала. Но на этот раз, соединив совершенно дилетантски конструкцию из проволоки, проводов и разобранного радио, я сам нарушил наш негласный договор.
– Ты можешь мне помочь?
– Все что угодно, если не нужно убить человека.
– Только если это не Керц?
– Только если это не Керц.
Я подговорил ее на нехорошую вещь – утащить кое-какие реактивы и вещества из лаборатории факультета, где этого добра было больше, чем в нашей. В нашей царили думающие механизмы, древние и современные арифмометры и какие-то особо сложные импортные узлы. Я не слишком верил в то, что делаю и не особо надеялся на успех. Для меня это было не более чем дань уважения Марану, вера в удачу и любопытство. Ни одна из наших книг, даже самых странных, вроде сочинений Хеты Роя, не говорила ни слова о возможности создания организмов из реактивов. Тем более, механических организмов, если таковые вообще возможны. Только бредовые записи Марана утверждали, что железный гомункул вполне реален.
Под вечер зарядил дождь, а потом началась настоящая гроза. Анна сидела на подоконнике, обхватив колени руками, и смотрела на то, как я изображаю профессора Омикрона, закатав штанины до коленей, а один рукав до локтя. Я кривил лицо и хмурил брови, и нес откровенную чушь, а Анна смеялась, щурясь и прикрывая рот ладонью. Ее локоны-пружинки дрожали, а за спиной бушевала ночь, изредка разрезаемая трещинами ярких молний.
Я провожал ее в восточное крыло, бережно придерживая за талию. Нас окружала тишина, нарушаемая лишь стонами старых стен, и темнота коридоров. В это время корпус почти пуст, только мы и еще пара чудаков нарушали его покой светом ламп и стуком подошв по растрескавшимся доскам. Сегодня мы были чуть больше, чем друзья, и я поцеловал ее уголок губ, в ответ она обняла меня за шею и исчезла за дверью, на прощание постучав с той стороны костяшками пальчиков. Я постучал в ответ.
В бурю здание общежития казалось кораблем, заброшенным в шторм посреди темного океана. Стены скрипели, выли сквозняки. Где-то наверху стучали ставнями раскрытые окна. Там, за кирпичной кладкой и бревенчатыми перекрытиями раскалывалось небо, обрушивая на острова, оглушающие своим ревом потоки воды, там колыхался океан и бушевал ветер. Я шел в сторону своей комнаты, прислушиваясь к собственным шагам. Иногда эхо голых стен возвращало их, и тогда казалось, что за мной кто-то гонится по коридорам, почти настигая. Я ускорял шаг.
Но совсем другие звуки пробивались вместе с полоской рыжего света из-под моей двери. Я был почти уверен, что закрыл окно и запер дверь, и никого постороннего в комнате быть не может. Но все же далекий, прерываемый треском и шуршанием вой наполнял тупик коридора. Я утер покрывшийся испариной лоб и провернул ключ в замке.
Звуки не стихли. Моя комната была пуста, все вещи на привычных местах, неподвижны, в оранжевом свете, словно насекомые в куске янтаря, иногда будто звери в затаившемся прыжке. Часто в момент паники они казались мне насмехающимися монстрами, превратившимися в унылые предметы обихода, готовые броситься на меня со всех сторон в любой неожиданный миг. Но сегодня я не чувствовал никакой паники. Меня радовало уже то, что воющий за стенами кошмар остается там, а у меня есть теплый свет, кровать и крыша над головой, хоть и капающая в дождь.
Шум от радио, нет причин для беспокойства. Я забыл его выключить уходя, и теперь, настроенное на волну, указанную Мараном, оно принимало помехи в эфире и разряды далеких молний. Я сел на пол возле странной конструкции, не сильно заботясь о чистоте его досок. Когда по точно отмеренным дозам я вплескивал в колбу вещества из списка Марана, украденные из лабораторных шкафчиков тонкими пальчиками Анны, я ожидал поначалу кипения или даже взрыва странной жидкости, но она была неподвижна, приобретя со временем буро-зеленый цвет. Сейчас она поблескивала прожилками серебра, в ее глубине возникали и поднимались наверх крохотные пузырьки. Они обволакивали электроды, проводки и погруженные на дно колбы бессмысленно спаянные вместе радио-платы. Захваченный этим волшебным зрелищем, я едва не пропустил время введения в раствор золотистого порошка, название которого мне было незнакомым, но Маран точно указал, где его можно взять и в каких количествах, будто сам прятал реактивы в заставленных старыми бюро и кипами перевязанных книг шкафчиках в заброшенных лаборантских комнатах.
Я ждал, ссыпая порошок в мутную жидкость, что вот-вот начнется процесс интереснее медленного бурления, и жидкость свернется железной спиралью, составленной из мириад крошечных шестеренок, а в центре застучит латунное сердце. Но ничего подобного не произошло. Порошок лег на дно мокрым металлическим грузом. Только радио продолжало завывать и отзываться на вспышки молний громким треском.
Разочарованный я добрался до кровати и уснул.
***
Меня мучил сон. Обычно я не помнил того, что мне снится, только смутные образы оставались в памяти и развеивались к завтраку. Но не в этот раз. Я шел по мощеным улицам города, залитого светом и дождем. Крупные капли сыпались с низкого неба, а солнце, казалось, висело ниже туч и его неправильный свет искажал цвета и пропорции обычно серого города. Все было грязно-желтым и рыжим цвета глины, кроме мостовой, сохранившей естественный цвет. Я шел с трудом, словно сквозь толщу воды в сторону знакомого гранитного берега, а впереди меня бежал, перепрыгивая с камня на камень маленький человечек. Он был не больше моего предплечья ростом, и кожа его, как и старомодный костюм, отливали медным металлическим цветом. Лица его я не видел, только поблескивающий на солнце затылок. Он говорил мне что-то, но я не мог разобрать. И догнать его тоже. Изредка он, не оглядываясь, манил меня рукой, поторапливая.
Я остановился на краю обрыва. Подо мной покачивалась глубокая вода океана, темная и в то же время прозрачная. Я видел нитки водорослей и микроскопических мальков, а после разглядел то, что поначалу показалось мне илистым дном. В заливе лежала под тоннами воды огромная рыба, куда больше размерами флагмана флота Близнецов. Лежала неподвижно на боку, и потревоженный недавним штормом ил медленно опускался на ее древнюю чешую, костяные жабры темные распластавшиеся плавники.
– Она давно мертва. И почти разложилась, только сердце ее еще живо, – сказал человечек, стоящий рядом со мной и всматривающийся в воду. – Ты можешь ее спасти.
Мертвая рыба бешено вращала огромным глазом, пока его взгляд не остановился на мне.
***
Казалось бы, безумный сон должен был вымотать меня, но я проснулся лишь чуть позже обычного с небольшой мигренью и сухостью во рту. В воздухе стоял запах воска и железа. Радио перестало шипеть и подвывать, его зеленая шкала больше не светилась. Я не рискнул прикасаться к колбе с погруженными в нее электродами. От нее тянуло теплом, а жидкость окрасилась в серебристый цвет и заметно загустела. Мне следовало выплеснуть все это и отнести остатки оборудования и реактивов в лабораторию. Утро прибавило трезвости мыслям, сентиментальность превратилась в смешной призрак в голове. Маран погиб, и чашка смердящей воском жидкости не вернет его из мертвых и не станет достойным памятником его памяти. Но этот уже не казавшийся кощунственным акт пришлось отложить до вечера. Стук в дверь и подсунутое под нее письмо напомнили о важности дня.
Я заполнил нужные документы в канцелярии, оплатил сбор из оставшихся денег и получил билет на пересдачу переводного экзамена. Сдал ставшие ненужными книги и взял новые. Остаток дня провел в библиотеке за переписыванием глав «Механической логики» Адама Бюсси и набрасыванием пометок к тексту, которые должны были помочь в предстоящем экзамене. Удивительно, но набор цифр и замысловатые схемы больше не казались мне сложными. Напротив, я видел в них глубокий смысл. И в сложнейшей схеме параллельного, перекрестного и последовательного переключения рычагов в цепи мне виделась красота создающейся механической мысли.
Я уже упоминал, что в это время Академия почти пуста, а потому библиотека была безлюдна и предоставлена только мне и книгам. И все же смутное движение тем зрением, которое принято называть периферийным, я не замечать не мог. Оно казалось колыхающейся тенью, затем обретшей самостоятельную жизнь вещью. Но все мои попытки поймать ее в поле зрения оканчивались ничем. Она ускользала, чтобы появиться вновь, когда я пытался сосредоточиться. В конце концов я списал все на дурной сон и перестал обращать на фантом какое-либо внимание. Меня больше забавляли размышления Бюсси о том, что механические цепи вполне могли бы быть электрическими, а производительность в расчетах выросла бы существенно при замене десятеричной системы счета на двоичную. Этот комментарий к книге всегда воспринимался как апокриф, фантазия и даже шутка автора. Возможно, я первый за долгие годы, кто уловил в нем здравый смысл. Торопливо вырвав из тетради лист, я принялся набрасывать цепочку алгоритмов и не заметил, как наступила ночь.
У двери меня ждал завернутый в платок кусочек пирога. Анна не застала меня в комнате, очевидно приходя пообедать вместе. Но я не сильно расстроился по этому поводу. Меня обрадовал пирог. Погруженный в работу, я совсем забыл про обед. Что до беседы, когда я увлечен работой – я совсем неважный собеседник.
Закончить длинную цепь вычислений удалось лишь в глубокой ночи. Загвоздка с регистрами памяти долго не давала покоя, но, когда я наконец решил проблему, от ночи оставалась лишь пара часов для сна, а от пирога – пара крошек. Но я не спал, я смотрел на застывшую над крышей Академии и вершинами холмов Планету, когда-то называемую Юпитером. Она заливала ровным светом спящий город и золотила гребни облаков. Призрачный шарик Ганимеда застыл на его фоне стеклянной бусиной. Когда-то декан Керц, разморенный обедом и никак не настроенный на начало лекции, мечтал при нас о том, что связь с людьми оттуда однажды не будет лишь областью радиосвязи. Что арифмометры и разностные машины могут просчитать траекторию для химических ракет будущего, способных доставить туда наших парламентеров, а может даже станут частью этих ракет. Мы посмеивались тогда, но сегодня мне его фантазии не казались забавными. В них была глубокая идея, которую я никак не мог уловить и оформить в полноценную мысль в своей голове. И в попытках сделать это, я уснул.
Обычно в день экзамена меня била дрожь, что вполне понятно, учитывая мое довольно шаткое положение в Академии. Но этим утром я был на удивление спокоен. Меня не расстроили даже серебристые пятна на подушке, которую, конечно же, мне никто не обещался заменить – остаток срока до конца семестра я жил тут на птичьих правах, хоть и платил полную цену. Я с сожалением потер пятна рукавом. Вероятно, странная жидкость в колбе вновь забурлила, выплеснулась и испачкала мою постель. По забывчивости я оставил электроды, и хоть бурление прекратилось, возможно, что какие-то реакции в веществе все еще продолжались. Присев, я всмотрелся в жидкость. Она казалась тяжелым мягким серебром, чем-то вроде ртути, но не отражающей, а поглощающей свет. Одновременно я видел и свое отражение и нечто невесомое, пульсирующее, похожее на живую жилку внутри. Не тревога и не любопытство заставляли меня вглядываться в нее, скорее странное гипнотическое чувство, уговаривающее приближать лицо к стеклу колбы. Лишь далекий голос разума, напоминающий о экзамене, заставил меня оторвать от сосуда взгляд и начать собираться.
Обычно в тревожный день пересдачи я заходил к Анне и получал немного наставлений и участия, но на этот раз остановился у широких дверей, ведущих в восточное крыло. Они казались мне куда больше обычных, а прибитый кем-то из шутников-курсистов сушеный моллюск над косяком отражал полированным панцирем дневной свет. Раскрытые двери настораживали меня. Так мог улетучиться воздух, если давление в восточном корпусе окажется ниже нормы или образуется вакуум. Я удивлялся тому, что двери никто не сделал двойными с кессоном между ними, как на экспериментальных подводных кораблях Близнецов. Наверное, потому сигнальная лампа над шлюзом так отчаянно горит. Я моргнул, и наваждение пропало. В конце коридора послышалась возня, и я поспешно ретировался, прижимая к себе учебники и блокнот.
Наверное, Анна считала, что я избегаю ее и не без оснований, но меня это совершенно не заботило. Заботило другое – выбранный наугад из стопки билет казался издевательски простым. Поначалу я даже решил, что Керц насмехается надо мной, но лицо его оставалось непроницаемо серьезным. Я все же заметил, что для подобных вопросов не требуется времени и ответ я могу предоставить не раздумывая.
Керц удивленно поднял на меня взгляд. В глубине глаз старого морского офицера, сменившего кортик на чернильное перо, блеснуло что-то вроде любопытства и одновременно тревоги. Возможно, он решил, что я намерен прекратить бесполезную борьбу.
– Это стандартная программа для вычислений значений с плавающей запятой, – сказал я. – Подходит для любого арифмометра и разностной машины, и не требует обращения к постоянной памяти, – Я взялся за бумагу и начал торопливо набрасывать строчки алгоритмов. Керц внимательно следил за моими действиями, не прерывая и не мешая, только изредка протирал толстые стекла очков. Думаю, вмешайся он в мои объяснения, я перебил бы его и продолжил. Но он молча расписался в моей карточке и поблагодарив за хороший ответ выпроводил из кабинета.
Мне было радостно, но почему-то не оттого, что я наконец перешел на старший курс и мог теперь выбрать специальность – то, о чем я отчаянно мечтал последние месяцы. Мне следовало немедленно найти Анну и крепко обнять, поблагодарив за поддержку, но перед этим зайти в кондитерскую лавку и купить лавандовых эклеров на оставшиеся деньги. Затем написать письмо матери, но адресованное не ее глазам и ушам, а отцовским. Я не был бы свидетелем того, как разочарование мной сменяется в седой голове угрызениями совести за недостаток веры в мои возможности. Но почему-то я не сделал ни одного ни другого, а причина моей радости крылась в возможность продолжать вычисления до конца дня, не отвлекаясь больше на такую ерунду, как глупые беседы и экзамены.
И все же Анну я встретил. Ее жакет медно-золотого цвета сверкал, как осенний день. Она собиралась в город отправить письма и попить анисового чая на набережной и звала меня с собой, но я отказался. Уклончиво ответил, что с экзаменом все хорошо, но подготовка слишком вымотала меня и остаток дня я собираюсь спать. Она пожала плечами и коснулась моего виска.
– У тебя тут… Ты поранился?
– Пустяки, – я поправил волосы. Висок и правда зудел. Вероятно одно из тех мерзких насекомых, что пробираются в корпуса общежития во время дождя. Торопливо попрощавшись с Анной, я заспешил в свою комнату, ощущая ее растерянный взгляд на себе. Но все тревоги по этому поводу исчезли, как только я закрыл за собой дверь.
***
Он дурак. Старый безмозглый шарж на учителя, притворяющийся сведущим в своем предмете. Не видеть легкость и красоту двоичной системы и считать ее игрушкой глупых романтиков, не знакомых с серьезной механической инженерией мог только человек подобный Керцу.
Я скомкал исписанные листы и начал заново. За моей спиной потрескивал на маленькой конфорке чайник, перекликаясь с ожившим радио. Погруженные в колбу провода покрылись серебристой липкой субстанцией, незримо ползущей теперь вверх к развинченному корпусу приемника. Я работал как одержимый, но краем глаза всегда видел колбу с серебристой жидкостью. Иногда мне казалось, что тонкие, похожие на струны отростки выползают из узкой горловины и шевелятся над ней, переплетаясь, изгибаясь и снова опускаясь в колбу. Но мне не было до этого никакого дела. Сидящий напротив меня за столом Маран следил за моей работой и молчаливо кивал. От язв и нарывов на его голове остались лишь бледные рубцы. Я вытащил из-под его руки чистый лист – один из последних оставшихся у меня, и расчертил его неровной таблицей. В правой части оставил место для выводов, которые незамедлительно начал набрасывать мелкими буквами, сбиваясь с ланга на родную письменность, но Маран остановил меня жестом и приложил ладонь к своей щеке, призывая немного отдохнуть.
Это было неплохой идеей. Я закрыл глаза и открыл их в другом месте. Странное черное небо было повсюду, и на нем горели немерцающие звезды. Я сидел на странном утесе, а острые скалы из грязного льда поднимались надо мной ввысь. Под ногами блестело изрытое трещинами и кратерами рыхлое снежное плато. Я чувствовал чье-то присутствие совсем рядом, повернул голову и обнаружил странного медного человечка, стоящего неподалеку от меня и опирающегося суставчатой рукой на скалы. На его полированном лице был прорезан рот, а маленькие глаза казались очень быстрыми и живыми. Мир оказался совсем маленьким, окруженным бездонным холодным пространством. Я видел белую дугу, изгибающуюся невесомой призрачной аркой в черном небе и растворяющуюся среди звезд.
Конец ознакомительного фрагмента.