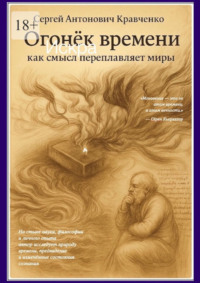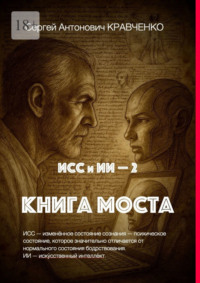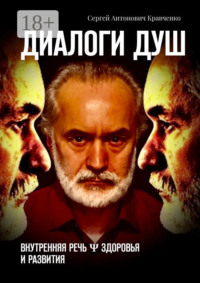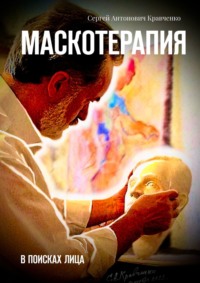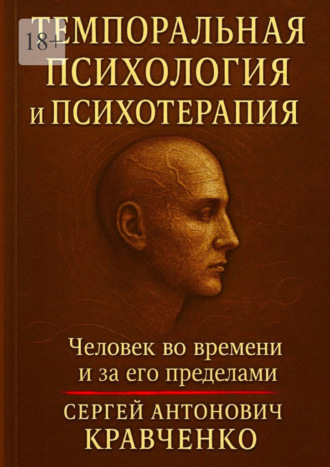
Полная версия
Темпоральная психология и психотерапия. Человек во времени и за его пределами
Таким образом: символы вечности – это модели времени; безвременье – выход за пределы этих моделей, патологичное по отношению к человеческой норме и становлению, но одновременно потенциально начало творчества и преображения. Поняв эту двойственность, мы получаем и объяснение механизмов тяжёлых нарушений переживания времени, и инструменты для их преодоления – терапевтические, символические и культурные. Это понимание становится основой дальнейшего изложения: как распознавать безвременье, как сопровождать переход от него к вечности, и как использовать орнаментальные и практические формы для восстановления времени в жизни человека.
Что такое безвременье
Безвременье – это состояние сознания и структуры переживания, при котором исчезают (или серьёзно размываются) опоры длительности: прошлое перестаёт «тянуть» за собой память, будущее – быть источником ожидания, настоящее – обрести стройную протяжённость. Это не просто «медленное» или «ускоренное» время, а качественный выход за категорию длительности: опыт, в котором всё кажется одновременно «застывшим» или «бесконечно настоящим», а линейные связи множества событий утрачены. (Опора: Августин о внутренней природе времени – время как феномен сознания).
Феноменологическая рама (положение наблюдателя)
Феноменально безвременье можно рассматривать через призму «точек-наблюдателя». Классическая модель – триада (прошлое, настоящее, будущее) вписанная в круг – описывает нормальную временную организацию сознания; добавление «точки вне круга» (позиции наблюдателя) помогает отличить вечность (замкнутую длительность) от состояния, которое не имеет длительности. В этой форме безвременье предстает как перспектива «сверху», не вовлечённая в временной поток, – но в отличие от созерцательной позиции, оно часто сопровождается нарушением связи с телесностью и смыслом бытия. (Опора: феноменология Хайдеггера о темпоральности и экзистенциальной структуре времени).
Клиника – когда безвременье становится патологией
В психиатрическом и нейронаучном контексте состояния, близкие к безвременью, наблюдаются при деперсонализации/дереализации и при ряде диссоциативных расстройств: пациенты описывают эмоциональную «обесцвеченность», утрату ощущения протяжённости событий и разрыв между переживаемым «я» и потоком времени. Эти состояния не просто экзотические переживания – они часто связаны со значительной утратой жизненной опоры и могут требовать клинической коррекции и реинтеграции временной структуры личности. (Опора: современные обзоры нейробиологии и клиники деперсонализации/дереализации).
Изменённые состояния сознания – граница и ресурс
Изменённые состояния сознания (ИСС), вызванные медитативными практиками, холотропным дыханием или психоделиками, часто дают опытом схожие «вне-временные» феномены – однако здесь важно различать: в трансперсональной парадигме выход за обычную длительность может быть интегрирующим и трансформирующим (потенциал инсайта, реструктуризации смысла), тогда как в клинических случаях он может означать распад опор и дезадаптацию. Это двойственное лицо безвременья – опасность и ресурс – ключ к терапевтическому подходу. (Опора: Гроф и трансперсональные исследования ИСС).
Культурно-орнаментальная сторона – как сообщества «запечатлевают» время
Материальная культура – орнамент, символика, архитектура – фиксирует разнообразные модели времени: уроборос, колесо, трискель, мандала и т. п. Эти знаки – не просто украшения; они служат визуальными моделями того, как культура организует длительность и воспринимаемую целостность. Понимание орнаментальной грамматики времени даёт методологический ключ: видеть, где культурные опоры ослабли, и как через символы можно восстанавливать ощущение связности и протяжённости. (Опора: исследования по психологии орнамента и визуальной структуре).
Резюме – рабочее определение и терапевтические следствия
– Определение: Безвременье – это качественное состояние выхода за категорию длительности, при котором исчезают или радикально изменяются временные опоры сознания.
– Две стороны: патологическая (деперсонализация, дезориентация) и творческая (трансцендентное рождение, источник символического творчества).
– Практический вывод: терапия должна одновременно восстанавливать временные опоры (телесная регуляция, работа с памятью и ожиданием) и аккуратно сопровождать творческое преобразование опыта (символы, ритуал, контролируемые ИСС-практики). (Синтез клиники и трансперсональной практики).
Чёрный экран как новый орнамент
Если в авангарде XX века «Чёрный квадрат» Малевича стал знаком нулевой точки искусства и метафорой выхода за время и предметность, то в XXI веке таким же символом пустоты для миллионов людей стал чёрный экран телефона, планшета или компьютера. Этот экран – повседневный, почти банальный образ «ничто»: остановка сигнала, ожидание запуска, обрыв связи. Но в феноменологическом плане он работает как современный орнамент безвременья – минималистичная форма, где исчезает привычная длительность. Чёрный экран оказывается знаком приостановки и обнуления, границы между прошлым и будущим, паузы, в которой ещё нет содержания, но есть потенциал новой формы. Как когда-то орнаменты фиксировали модели времени в камне и ткани, так сегодня цифровая культура создаёт собственные символы – лаконичные знаки пустоты, через которые человек переживает безвременье и возможность нового начала.
Терапевтический аспект «чёрного экрана»
В психотерапевтической практике образ чёрного экрана может быть использован как безопасная метафора безвременья. Он обозначает паузу и обнуление, но не разрушение: это состояние ожидания, перехода, возможности нового запуска. Работа с этим образом помогает клиенту осознать, что пустота не всегда равна утрате – она может быть пространством для нового смысла, как «чистый лист» для будущего опыта. В упражнениях с воображением или в медитации обращение к символу чёрного экрана позволяет мягко коснуться опыта безвременья и перевести его в ресурсное состояние – остановки, отдыха, начала.
_______
Литература
I. Философские основания времени и атемпоральности
Августин Аврелий. – Исповедь, книга XI (Confessions, Book XI).
Классическое философско-богословское размышление о времени и памяти. Знаменитый фрагмент «Что же такое время?» формулирует представление о внутренней протяжённости сознания, где прошлое, настоящее и будущее соединяются в опыте духа. Важен для различения длительности и измерений, выходящих за пределы времени.
Гуссерль, Эдмунд. – Феноменология внутреннего сознания времени (Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins, 1905).
Даёт методологический аппарат феноменологического анализа времени – через категории ретенции, протенции и акта «сейчас». Фундамент для понимания временной структуры переживания и различения психологического и атемпорального времени.
Хайдеггер, Мартин. – Бытие и время (Sein und Zeit, 1927).
Фундаментальная работа, рассматривающая темпоральность как экзистенциальную структуру бытия человека. Идеи «экстатического времени» и различения времён задают философскую основу для понимания наблюдательской точки вне длительности.
II. Религиозно-мистическая и трансперсональная перспектива
Джеймс, Уильям. – Многообразие религиозного опыта (The Varieties of Religious Experience, 1902).
Описывает характеристики мистических состояний – непередаваемость, ноетичность, чувство единства и вне-временности. Служит эмпирическим основанием для анализа переживания вечности и его терапевтического значения.
Элиаде, Мирча. – Священное и профанное (The Sacred and the Profane, 1957).
Анализирует различие сакрального (циклического, вневременного) и профанного (линейного) времени. Труд важен для понимания орнаментальных моделей времени и ритуальных форм, связывающих человеческий опыт с вечностью.
Гроф, Станислав. – Голотропный разум (The Holotropic Mind, 1993); По ту сторону мозга (Beyond the Brain, 1985).
Создатель трансперсональной психологии; описывает феноменологию изменённых состояний сознания и опыт выхода за пределы обычных временных рамок. Используется как теоретическая и клиническая основа для анализа безвременья и переживаний вечности.
Ньюберг, Эндрю; д’Акуили, Юджин. – Почему Бог не уходит (Why God Won’t Go Away, 2001).
Исследование нейрофизиологических коррелятов религиозного опыта. Демонстрирует различие между нейробиологией мистических переживаний и психопатологическими состояниями, помогая терапевтически разграничивать трансцендентное и клиническое.
III. Психология, нейронаука и клиника времени
Блок, Р.; Гронден, С. – Timing and Time Perception: A Selective Review (2010); The Psychology of Time Perception (Wearden, J.).
Современные обзоры по восприятию времени раскрывают механизмы «внутренних часов» и их связь с эмоциями. Эти работы объясняют, как длительность теряется или искажается при безвременье и других изменённых состояниях.
Морен, С. – Обзоры по внимательности и восприятию времени (Mindfulness and Time Perception, 2024).
Исследования показывают, что практика осознанного присутствия расширяет субъективную протяжённость «сейчас» и способствует восстановлению временной структуры личности.
Сьерра, М. и др. – Обзоры по деперсонализации и дереализации (2004—2023).
Клинические исследования феноменов отчуждения, при которых нарушается ощущение временной протяжённости и целостности опыта. Важны для понимания безвременья как патологического состояния.
IV. Орнамент, символ и материальная культура времени
Джонс, Оуэн. – Грамматика орнамента (The Grammar of Ornament, 1856).
Классический труд по теории и эстетике орнамента. Иллюстрирует, как через ритмы, повторения и симметрии материальная культура фиксирует модели времени и вечного возвращения.
Гомбрих, Эрнст Ганс. – Чувство порядка (The Sense of Order, 1979); Искусство и иллюзия (Art and Illusion, 1960).
Исследует психологию восприятия орнамента, показывая, как ритм и симметрия организуют внимание и память. Его идеи помогают понять «временную грамматику» визуальных структур.
Современные исследования по антропологии орнамента. – Decorative Forms and Cultural Memory Studies (2020-е).
Обзоры связывают орнамент с коммуникативной и памятной функцией, демонстрируя его роль как формы культурной памяти и терапевтического якоря в арт-терапии и аутогенных практиках.
V. Творчество, поток и эстетический опыт вне времени
Чиксентмихайи, Михай. – Поток: психология оптимального переживания (Flow: The Psychology of Optimal Experience, 1990).
Классическая работа о феномене потока как состоянии вне времени. Автор описывает динамику пиковых переживаний, в которых слияние действия и сознания даёт ощущение сопричастности вечному.
VI. Практические и терапевтические руководства
Шульц, Иоганн Генрих. – Аутогенная тренировка (Autogenic Training, 1932 и последующие издания).
Методика психофизиологической саморегуляции, восстанавливающая протяжённость настоящего момента и чувство временной устойчивости.
Гроф, Станислав. – Холотропное дыхание (Holotropic Breathwork).
Практика, направленная на вхождение в ИСС с целью интеграции бессознательного материала и достижения трансперсональных состояний; требует строгого соблюдения условий безопасности.
Кравченко, С. А. – ИСС и ИИ – 2. Книга Моста. – Издательские решения, 2025.
Методологическая и терапевтическая разработка концепции «моста» от безвременья к вечности. Даёт основу для перехода от теории к практике и объединяет феноменологию времени, психотерапию и цифровые технологии.
Как работать с этим списком
– Для философской части начните с Августина и Хайдеггера – это даст историко-феноменологическую опору.
– Для описания безвременья как ИСС/патологии опирайтесь на обзоры деперсонализации и на современные исследования time-perception; это даёт клинические индикаторы и инструменты диагностики.
– Для визуальной и орнаментальной аргументации используйте Owen Jones и Gombrich + антропологические статьи – они помогут связать конкретные знаки с моделями времени.
– Для практической терапии – объединяйте АТ (Шульц) с контролируемыми ИСС-методами Грофа и mindfulness-подходами (см. обзоры по майндфулнес и времени).
___
Визуальные символы безвременья
В мировой культуре есть набор знаков/орнаментальных приёмов, которые с большой степенью уместности можно интерпретировать как визуальные «символы безвременья» – то есть образно репрезентируют не просто вечность или цикличность, а отсутствие длительности, пустоту-предел, состояние «до-времени» или «вне-времени». Но важное предупреждение сразу: большинство традиционных символов скорее обозначают вечность/цикличность/целостность, чем буквальное «безвременье» – перевод таких образов на термин «безвременье» всегда требует аккуратной hermeneutics (контекст-уточнения). Ниже – подбор кандидатов с короткими объяснениями и указанием, почему их можно (или не стоит поспешно) считать символами безвременья.

Визуальные символы безвременья
Кандидаты на роль «символов безвременья» (с пояснениями)
– Ensō – круг «пустоты» в дзэн (японская живопись). Почему подходит: ensō – это одновременно «пустота», «целое», «момент» и «ничто»; в определённых интерпретациях он указывает на состояние «no-mind», освобождённое от обычной временной наррации – ближе всего к опыту атемпоральности. Но в других контекстах ensō символизирует целостность/вечность, поэтому значение многослойно. «Круг-пустота: ensō с bindu – символ состояния вне длительности.»
– Шива-точка / bindu (индийская традиция, тантра, мандала). Почему подходит: bindu – точка происхождения, «зерно» из которого возникает проявленное; как «точка-исток» она может означать состояние до-времени (точка, где протяжённость ещё не началась). В визуальном ряду bindu часто противопоставлен протяжённым структурами мандалы; эта полярность пригодна для метафоры «до-времени».
– Образы первичного бездны / первичного хаоса (eg. Nun в Египетской космогонии; нитка Ginnungagap в нордической мифологии). Почему подходит: мифы о «первичной воде» или «пустом провале» – это культуральные описания состояния до сотворения, когда нет протяжённости, нет времени как такового; визуальные репрезентации этих мифов (волнообразные мотивы, тёмная бездна) можно читать как знаки безвременья.
– «Пустой трон» / aniconic absence (в раннем буддизме, христианской герархии – hetoimasia). Почему подходит: пустой трон как знак отсутствующего присутствия – не образ вечной длительности, а символ «отсутствия» ( – чего нельзя представить), он создаёт пространство «не-представления», которое близко к идее того, что выходит за временную категорию. В ранней буддийской иконографии отсутствие изображения Будды передавало трансцендентность.
– Чёрный квадрат (К. Малевич) – «нулевая точка» искусства / знак небытия-потенциала. Почему подходит: в авангарде XX в. «чёрный квадрат» стал символом «ничто/начало/нулевой точки», лаконичным указанием на преодоление предметности и на «пустоту», откуда возможна новая форма – можно читать как современный орнамент-метафору состояния вне обычных временных координат. Черный экран телефона, планшета или компьютера может служить таким же символом.
– Śūnyatā (шуньята) – концепт «пустоты» в буддизме (и его визуальные знаки). Почему подходит: доктрина пустоты означает отсутствие самостоятельной сущности вещей; переживание шуньяты часто описывается как выход из привычных причинно-следственных временных связей – близко к нашей идее «вне-длительности». (Это философский/духовный, а не чисто декоративный символ, но он часто кодируется в визуальных практиках.)
– Мёбиус-лента / нетопологические мотивы (современная символика). Почему подходит: современная математическая фигура, используемая в искусстве и ювелирной символике – образ неориентируемости и «односторонности», который легко интерпретировать как знак утраты привычной хронологической ориентировки (время, где нельзя провести «вперёд/назад»). Это современная, не-традиционная метафора безвременья.
– Лабиринт / пустой центр (избирательно). Почему подходит: классический лабиринт как путь, ведущий в «центр-нецентра»; в ритуальной практике переживание центра иногда описывают как «вне-временное» (момент, где дорожка и круг теряют линейную хронологию). Лабиринт ближе к переходному образу – может выступать мостом между временем и его отсутствием.
– Темный/водяной мотивы бездны (в народных и мифологических орнаментах). Почему подходит: образ тёмной воды, бездны или «первичного океана» часто служит визуальным эквивалентом состояния пред-существования – может быть использован как орнамент-символ «до-телесного», «до-материального», о чём вы писали (пример: мотивы «моря-хаоса» в разных традициях).
– Оuroboros (уроборос) – граница случая. Почему спорен: уроборос чаще читают как символ цикличности и вечного возрождения (то есть – «временность, но замкнутая»), а не как отсутствие длительности. Тем не менее – в ряде алхимических трактатов он обозначает состояние самозамыкания, в котором внешняя хронология теряет смысл; в этом аспекте он может быть использован как «граничный» знак между вечностью и безвременьем. (Использовать осторожно и с пояснением.)
Общая рекомендация по интерпретации и использованию
– Разграничивайте «вечность» и «безвременье». Большинство орнаментов (трискели, колёса, уроборосы, мандалы) конструируют длительность/цикличность – они лучше подходят для символов вечности, а не безвременья. Для «безвременья» нам нужны образы пустоты/отсутствия/пред-существования (ensō, bindu как «точка-исток», Nun/Ginnungagap, empty throne, black square).
– Контекст важнее формы. Один и тот же знак может служить и для вечности, и для безвременья – всё зависит от культурного и ритуального контекста, от того, сопровождается ли он текстом/ритуалом/медитацией. Поэтому при включении «символа безвременья» в орнамент лучше дать читателю/наблюдателю краткое пояснение.
– Этическая и культурная осторожность. Некоторые образы (напр., древние религиозные символы) нельзя «перетолковывать» произвольно – лучше указывать источник и объяснять авторскую трансформацию.
___
В Приложении к главе 10 – Протокол для работы с пациентами, переживающими безвременье / атемпоральность.
Раздел 3. Вариации переживания времени
Краткое содержание
В этом разделе исследуются разнообразные формы переживания времени, выходящие за рамки линейной триады «прошлое – настоящее – будущее». В центре внимания – субъективные различия и расхождения между социальным, биологическим и экзистенциальным временем; возрастная динамика восприятия; установки времени жизни; а также изменённые состояния сознания, где привычные временные структуры размываются или преодолеваются.
Ключевые понятия
– два чувства времени
– паспортное и биологическое время
– возрастное восприятие времени
– установки времени жизни
– ИСС и выход за пределы времени
– сознание за пределами времени
Цели раздела
– показать, что время не сводится к объективной хронологии, а имеет множество субъективных модусов;
– раскрыть психологическое значение расхождений между календарным, телесным и внутренним временем;
– проанализировать возрастные и культурные различия в восприятии времени;
– исследовать, как установки жизни определяют отношение к её длительности и завершённости;
– представить феноменологию и психологию опыта «за пределами времени» в изменённых состояниях сознания и в трансцендентных переживаниях.
Глава 11. Два чувства времени
«Длительность – качественная, не количественная.» – в духе Бергсона
Краткое содержание
Человек переживает время двояко: как поток и как неподвижность. Эти два ощущения – исчисляемое и неисчисляемое – образуют парадоксальную основу психического опыта. В главе даётся разграничение этих режимов, показаны их проявления в прошлом, настоящем и будущем, а также предложены практические упражнения и визуальные метафоры, помогающие распознавать и управлять чувствами времени, если они выходят за рамки нормы.
Ключевые понятия
– Исчисляемое время – режим времени, в котором переживание строится через последовательность смысловых единиц; измеримо и поддаётся счёту.
– Неисчисляемое время – качественная длительность внутри одной смысловой единицы; переживается как плотность, неподвижность или «вечность».
– Эйдос / смысловая единица – минимальная структурная единица опыта, через которую сознание выделяет переходы и конструирует счёт времени.
– Безвременье – состояние, при котором исчезают опоры исчисления, но сохраняется субъективный опыт.
Введение
Два базовых ощущения времени составляют парадоксальную основу психического опыта. Я называю их – исчисляемым и неисчисляемым временем. Первое связано с измерением, фиксацией, календарём и часами, второе – с переживанием вечности, остановки, растворения в моменте.
Исчисляемое время соответствует ритму культуры и социальных институтов: обучение, труд, расписания, обязательства. Благодаря ему человек может синхронизироваться с другими, строить планы и осуществлять проекты. Но оно всегда внешне по отношению к субъекту, всегда навязывает ему свои рамки.
Неисчисляемое время проявляется как внутреннее, «живое». Оно может переживаться как длительность, как плотность опыта, как остановка или замедление. Его не измерить часами, но именно в нём живёт субъективное ощущение жизни. Состояния вдохновения, творчества, сна или глубокой медитации раскрывают неисчисляемое время в особой полноте.
Важно, что эти два чувства времени не существуют изолированно. Человек постоянно балансирует между ними: в повседневной деятельности он опирается на исчисляемое, в переживаниях смысла и подлинности – на неисчисляемое. Гибкость этого перехода определяет психическое здоровье.
Психологические нарушения нередко связаны с утратой этого равновесия. Чрезмерное доминирование исчисляемого времени ведёт к тревоге, ощущению постоянной нехватки, истощению. Напротив, фиксация на неисчисляемом может приводить к застою, депрессии, уходу в мир иллюзий. В клинической практике это проявляется как потеря «чувства времени» в одном из полюсов: у тревожного человека часы словно «бегут», у депрессивного – останавливаются.
Психотерапевтическая работа в этой перспективе заключается не столько в коррекции содержания переживаний, сколько в восстановлении способности субъекта переключаться между двумя временны́ми модальностями. Человек учится осознавать, когда ему необходимо подчиниться ритму исчисляемого, а когда позволить себе погрузиться в неисчисляемое.
Таким образом, два чувства времени – это не просто абстрактные категории, а фундаментальные координаты человеческого существования. За их пределами начинается область изменённых состояний сознания, где нормы привычного переживания времени могут размываться, усиливаться или исчезать. Именно туда мы обратимся в последующих главах, рассматривая пространство снов, медитаций и иных ИСС.