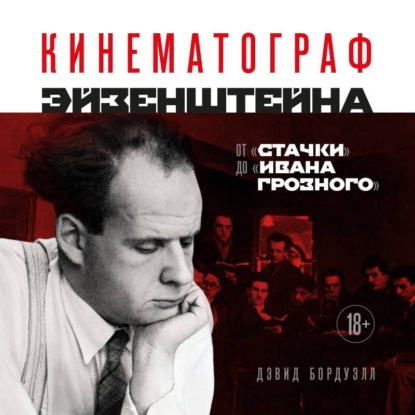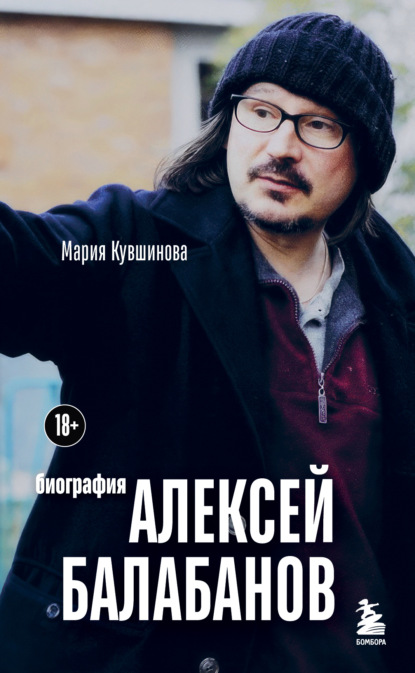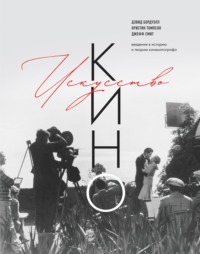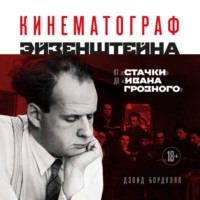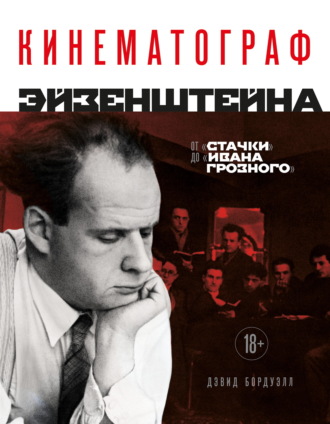
Полная версия
Кинематограф Эйзенштейна. От «Стачки» до «Ивана Грозного»
Глава 2 посвящена четырем фильмам, которые он снял в 1920-е гг. Я кратко рассказываю о состоянии советского кинематографа 1920-х, а затем анализирую «Стачку», «Броненосец „Потемкин“», «Октябрь» и «Старое и новое». Я также описываю, как постоянные эксперименты Эйзенштейна расширили возможности «героического реализма» монтажного кино. Его практический подход поднял вопросы киноформы и воздействия кино на зрителя, которые занимали его всю дальнейшую жизнь.
В следующей главе я рассматриваю его тексты 1920-х годов. В этот период Эйзенштейн исследовал реакцию зрителя и киностилистику. Как будто каждый его фильм так остро ставил определенные вопросы, что ему нужно было сформулировать и развить их на бумаге. В этой главе речь идет о его взглядах на монтаж аттракционов , выразительное движение и диалектический монтаж.
Глава 4 рассказывает о заметной перемене. В 1920-х практика для Эйзенштейна предваряла теорию, но с 1930-х в практике он часто руководствовался уже обдуманной теорией. В преподавательской деятельности формулировались идеи, которые он проверял в своих фильмах. Практическая эстетика его учебной программы 1930–1940-х гг. наглядно демонстрирует характерное для него слияние практики и основных идей.
Теоретические тексты Эйзенштейна, написанные в период с 1932 до 1948 гг., часто кажутся абстрактными раздутыми громадинами. В главе 5 я стараюсь показать, что, взятые вместе, они демонстрируют определенную степень внутреннего единства, строящегося на заметных переменах в его концепциях зрительского восприятия и структуры фильма. Я прослеживаю связь между его представлениями о «внутренней речи», полифонном и вертикальном монтаже, пафосе и экстазе. Я также выдвигаю неочевидное предположение, что, развивая кинопоэтику, Эйзенштейн стремился наделить догмы официальной эстетики соцреализма твердой основой и глубиной.
Тема главы 6 – два главных проекта последних десяти лет жизни режиссера, «Александр Невский» и незаконченная трилогия «Иван Грозный». Как и прежде, основное внимание я уделяю фильмам как формальному целому, их связи с теоретическими размышлениями и новаторству, которое Эйзенштейн привносит в практику создания фильмов того времени.
В последней главе я очерчиваю тенденции, преобладавшие в изучении наследия Эйзенштейна после его смерти, и кратко рассказываю о его влиянии на других режиссеров. В завершение я говорю о значении его поэтики кино.
В основном я опирался на версии фильмов, доступные на Западе, и материалы, опубликованные на западных языках [34]. Такой подход неизбежно ограничивает. Избранные произведения Эйзенштейна на русском языке насчитывают шесть толстых томов. Редактуры и публикации ждут как минимум еще шесть томов текстов, не издававшихся ранее, а также дневники, письма и тысячи страниц стенограмм лекций. Собрание его работ в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) включает почти 6000 дел и более 15 000 документов. Благодаря переменам в стране, которая раньше была Советским Союзом, должен увидеть свет большой объем новой информации о жизни Эйзенштейна, его фильмах и условиях, в которых он работал.
Я не говорю и не читаю на русском и поэтому не использовал материалы из РГАЛИ и других архивов. Это введение в творчество Эйзенштейна, которого мы знаем, а не Эйзенштейна, которого, возможно, откроют в ближайшие десятилетия. Но с помощью переводчиков я изучил множество материалов на русском и включил в книгу ранее не переведенные отрывки, которые подтверждают или дополняют мою аргументацию.
Кажется, что Эйзенштейн был со мной всегда. В 14 лет я прочитал «Киноформу» и «Чувство кино» [35] в старом однотомном издании Meridian. (Экземпляр сейчас потрепан, но вклейка с «Невским» до сих пор вызывает завистливые взгляды студентов.) Хотя я почти ничего не понял из текста, Эйзенштейн сделал меня киноманом. На стене спальни я смотрел 8-миллиметровую копию сцены на одесской лестнице. На первом курсе я потратил деньги, отложенные на учебник алгебры, чтобы купить «На уроках С. М. Эйзенштейна». Той осенью я наконец-то посмотрел «Октябрь» и «Старое и новое». Увидеть «Стачку» я смог только на четвертом курсе. В последующие десятилетия мою эйзенштейновскую коллекцию постоянно пополняли сборники, переводы, биографии, вновь обнаруженные материалы и обновленные версии фильмов.
Я возвращаюсь к картинам Эйзенштейна с неизменным любопытством и уважением. Я научился любить его схоластические отступления, корявый юмор, намеренную неопределенность формулировок и самовлюбленность так же, как неуемный энтузиазм и богатое воображение. Это бесстрашный друг, который одновременно раздражает и воодушевляет. В книге я стараюсь ослабить раздражение, хотя бы частично передать воодушевление и сохранить немного бесстрашия.
1. Жизнь в кино
У Эйзенштейна была яркая, насыщенная жизнь. Его достижения и авантюры заслуживают более подробного рассказа, чем я могу себе здесь позволить. Для целей этой книги полезнее рассмотреть его карьеру как раму, в которую можно поместить его фильмы и теоретические тексты.
Из театра в кино
Сергей Михайлович Эйзенштейн родился в Риге 22 января 1898 года (10 января по старому стилю). Его отец, Михаил Осипович Эйзенштейн, был известным архитектором и гражданским инженером и происходил из семьи немецких евреев. Мать, Юлия Ивановна Конецкая, была из состоятельной купеческой семьи.
У Эйзенштейна было космополитическое детство, он на время переезжал в Париж (где впервые увидел кинофильм), изучал французский, немецкий и английский языки. С раннего детства он запоем читал, рисовал карикатуры, проявлял живой интерес к театру. Максим Штраух, который дружил с ним с детства, вспоминал, что Эйзенштейн обожал цирк и давал представления во дворе.

1.1 Сергей Эйзенштейн с родителями, Михаилом Осиповичем и Юлией Ивановной, 1890
Позже Эйзенштейн утверждал, что склонность к социальному протесту возникла у него из-за деспотичного характера отца. В 1909 году Юлия Ивановна уехала, а через три года родители развелись. Сын остался с отцом, но навещал мать и бабушку, которые жили в Санкт-Петербурге.
Поначалу Эйзенштейн собирался пойти по стопам отца. В 1915 году, после окончания реального училища, он поступил в Петербургский институт гражданских инженеров. Следующие два года он жил с матерью.
Революция прервала обучение. В феврале 1917-го его призвали в армию и отправили на фронт. После прихода к власти большевиков Эйзенштейн ненадолго вернулся в институт. В 1918 году, с эскалацией Гражданской войны, он добровольно вступил в Красную армию и служил техником в инженерных войсках. Его отец был на стороне белых.
В армии Эйзенштейн продолжил рисовать карикатуры, а также расписывал агитпоезда. Он принимал участие в театральных постановках в тех городах, где стояла его часть. В результате ему поручили постановку спектаклей.
Осенью 1920 года Эйзенштейна демобилизовали, и он вернулся в Москву. Он начал изучать японский язык в Академии Генерального штаба , но вскоре ушел оттуда ради работы в Первом рабочем театре Пролеткульта художником-декоратором.
Пролеткульт в начале 1917 года создал философ Александр Богданов. В соответствии с идеями классиков марксизма он выступал за развитие самостоятельного пролетарского искусства, которое должно прийти на смену отмирающему буржуазному. Богданов утверждал, что искусство будет играть организующую роль в коммунистическом обществе, преобразуя опыт в эмоциональные, часто утопические образы. Богданов также разработал тектологию, научную дисциплину, которая должна была превратить мир в гармоничную социальную систему .
Изначально театр Пролеткульта делал упор на коллективном зрелище, использовал приемы символизма и экспрессионизма, обращался к религии и мифам. После того как компартия отказалась признавать организацию официальным рупором коммунистической культуры, московский Пролеткульт стал более экспериментальным. Эйзенштейн вошел в московскую группу, увлеченную авангардом.
Эйзенштейн погрузился в московский театральный мир. В мастерской Николая Фореггера (Мастфор) он изучал приемы комедии дель арте. Он преподавал на театральных курсах в Красной армии и руководил актерской мастерской в Пролеткульте. В его послужном списке более двадцати спектаклей, один из самых известных – это «Мексиканец», который он поставил в Пролеткульте совместно с Борисом Арватовым и Валентином Смышляевым в 1921 году. Спектакль включал напряженный боксерский матч. И если зрители на сцене аплодировали чемпиону, настоящие зрители в зале болели за революционера-аутсайдера. Эйзенштейн позже с удовольствием вспоминал звуки «удара перчаток по напряженным мышцам и коже» [36]. Такое непосредственное воздействие на зрителей стало первым шагом к агитаттракционному театру, которым Эйзенштейн будет заниматься следующие три года [37].
Арватов, один из главных теоретиков конструктивизма, оказал на молодого режиссера большое влияние. Вместе с ним Эйзенштейн разработал программу для режиссерских курсов Пролеткульта, в рамках которой актерская игра рассматривалась как «кинетическая конструкция», а спектакль – как «монументальная конструкция». Одновременно Эйзенштейн попал под влияние человека, которого позже назвал своим вторым отцом.
Всеволод Мейерхольд был признанным мастером левого театра. В его постановке «Мистерии-буфф» Владимира Маяковского (1918) история о Ное и Всемирном потопе подавалась как аллегория пролетарской революции. Спектакль оформлял Малевич, актеры заимствовали приемы из цирка, все это сделало постановку образцом театрального эксперимента, созданного в пропагандистских целях. В ноябре 1920 года Мейерхольд поставил символистскую драму Эмиля Верхарна «Зори», превратив произведение в политический митинг. Актеры декламировали текст как ораторы, прожекторы прочесывали зрительный зал, среди публики разбрасывались листовки. Весной 1921 года Мейерхольд и Маяковский осуществили повторную постановку «Мистерии-буфф», в которую вошло еще больше цирковых элементов, а действие выплеснулось в аудиторию.
Осенью 1921 года Мейерхольд открыл Государственные высшие режиссерские мастерские, где Эйзенштейн изучал актерскую игру и постановку, помогал в обучении актеров и участвовал в создании декораций и костюмов для спектакля «Дом, где разбиваются сердца» (1922). Меньше чем через год Мейерхольд заявил, что Эйзенштейну больше нечему учиться, и молодой человек прекратил учебу, продолжив работать с Мейерхольдом в качестве помощника режиссера.
«Вся работа Сергея Эйзенштейна идет от корней той лаборатории, в которой мы вместе с ним работали, я – в качестве его учителя, он – в качестве моего ученика» [38]. Мейерхольд преувеличивает, но он, безусловно, оказал на Эйзенштейна огромное влияние. Убеждение Эйзенштейна, что на зрителя можно воздействовать посредством актерского виртуозного владения телом, его внимание к ритму, пантомиме, интерес к азиатскому театру, цирку, гротеску, даже попытка в 1930-е гг. создать учебную программу для режиссеров с обязательной физической и культурной подготовкой – все это зародилось и развивалось в процессе общения с Мейерхольдом. Высокомерный мастер околдовал Эйзенштейна. «Никого никогда я, конечно, так не любил, так не обожал и так не боготворил, как своего учителя» [39]. После ареста Мейерхольда в 1939 году Эйзенштейн сохранил его бумаги и во время войны забирал их с собой в эвакуацию.
В начале 1920-х годов Эйзенштейн находит и других единомышленников. Актриса Юдифь Глизер и давний друг актер Максим Штраух работали в театре Пролеткульта. Там же работал и Григорий Александров, который стал соавтором Эйзенштейна. В мастерских Мейерхольда он познакомился с Сергеем Юткевичем, они ходили смотреть американское кино, вместе работали над несколькими постановками, а летом 1922 года написали пародию на комедию дель арте под названием «Подвязка Коломбины», в которой опробовали идею театрального аттракциона, сравнимого по силе воздействия с американскими горками и другими аттракционами парков развлечений. Юткевич познакомил Эйзенштейна с членами петроградской группы ФЭКС (Фабрика эксцентрического актера) Григорием Козинцевым и Леонидом Траубергом.
Эйзенштейн и его соратники считали само собой разумеющимся, что авангардные художники преследуют политические цели. Октябрьская революция привлекла под свои знамена многих художников, а крайне левая атмосфера военного коммунизма подогрела их политический пыл. Абстрактная живопись или экспериментальные тексты должны были нести социальную пользу, чтобы такие «лабораторные эксперименты» считались оправданными. К 1923 году чистые эксперименты в искусстве стали неприемлемы, нужно было работать с понятным материалом на благо агитации, пропаганды и образования.
В 1921 году новая экономическая политика ввела смешанные рыночные отношения для восстановления страны после разрушений Гражданской войны. Нэп привел к конкуренции различных художественных направлений за влияние и партийное признание. Некоторые группы заявляли, что литература и визуальные искусства должны развиваться в рамках традиционного реализма. По их мнению, только такой подход будет доступен широким народным массам. Другие группы вслед за Пролеткультом призывали к созданию пролетарского искусства, которое сформулирует новые советские мифы и повысит сознательность рабочего класса.
Эйзенштейн вращался в группе последователей левого искусства. В нее входили такие фигуры, как Маяковский, Арватов, Владимир Татлин, Алексей Ган, Осип Брик, Александр Родченко, Варвара Степанова, Любовь Попова и Сергей Третьяков. Большинство левых художников до революции так или иначе были связаны с футуризмом и надеялись, что эксперименты раннего периода в чистых, динамизированных формах можно использовать в общественных целях.
Авангард начала 1920-х годов в основном определялся общим термином конструктивизм. В целом представители конструктивизма в театре и изобразительных искусствах старались из футуризма и художественного абстракционизма создать политическое искусство, основанное на свойствах материала и инженерных принципах. Конструктивистское искусство в некотором смысле – это абстрактное искусство, переосмысленное в терминах конструирования машин в агитационных и пропагандистских целях. К середине 1920-х гг. большинство конструктивистов ответили на социальный заказ и стали создавать произведения, приносящие практическую пользу, например плакаты и книжные иллюстрации. Многие из них таким образом приблизились к родственному направлению – продуктивизму, или производственному искусству. Представители производственного искусства стремились результаты формальных экспериментов перенести непосредственно в промышленность, создавая ткани, одежду и мебель. Если конструктивисты использовали методы промышленного дизайна для создания произведений изящного искусства, представители производственного направления устранили различие между изящными и прикладными видами искусства.
Восстающих против буржуазных тенденций, отвергающих искусство прошлого левых художников, играющих на характерном для футуризма стремлении поразить зрителя, легко было обвинить в «хулиганском коммунизме», как это называл Ленин [40]. Позже Эйзенштейн с сожалением вспоминал начало своего творческого пути: «Кругом шел безудержный гул на ту же тему уничтожения искусства: ликвидацией центрального его признака – образа – материалом и документом; смысла его – беспредметностью; органики его – конструкцией; само существование его – отменой и заменой практическим, реальным жизнеперестроением» [41].
Отдельные конструктивисты и продуктивисты объединились вокруг журнала «ЛЕФ», рупора одноименного объединения ЛЕФ (Левый фронт искусств). В серии манифестов редакция требовала, чтобы искусство агитировало массы и организовывало общественную жизнь. Писателей призывали практиковать «лингвистическую инженерию» и объединяться с литературоведами (критики-формалисты Виктор Шкловский и Юрий Тынянов), художниками (Родченко, Ган), театральными и киноработниками (Дзига Вертов). ЛЕФ стремился создать широкий фронт экспериментаторов, которые совместили бы художественный модернизм с радикальной идеологией.
Эйзенштейна с ЛЕФом познакомил Сергей Третьяков, который работал в Пролеткульте. Манифесты Третьякова, опубликованные в журнале, отталкивались от идей Богданова и требовали, чтобы деятели искусства стали учеными, «психоинженерами», просчитывающими и организующими реакции публики [42]. Он также заявлял, что эти реакции должны быть эмоциональными; даже если художник работает в холодной, рациональной манере, искусство требует, чтобы реакция публики была эмоциональной. Об этой концепции искусства и художника Эйзенштейн будет говорить все 1920-е годы.
В театре периода Гражданской войны массовые постановки и большие зрелища соседствовали с экспериментами по ассимиляции таких популярных жанров, как водевиль, цирк и американская кинокомедия. Эта тенденция нашла выражение в спектакле ФЭКС «Женитьба» по Гоголю (1922), постановках Мейерхольда «Великолепный рогоносец» (1922) и «Смерть Тарелкина» (1922), а также в работах Сергея Радлова и Александра Таирова. В статье 1922 года Эйзенштейн и Юткевич замечают, что фильмы Фэрбенкса, Чаплина, Арбакла и других голливудских артистов дают «новые возможности подлинного эксцентризма» [43].
В этой бурной атмосфере Эйзенштейн стал самым заметным режиссером молодого поколения. Серия совместных с Третьяковым постановок в театре Пролеткульта сделала его известным.
Самым скандальным стал спектакль 1923 года по классической пьесе Александра Островского «На всякого мудреца довольно простоты», в их интерпретации она стала называться просто «Мудрец». В год столетия со дня рождения драматурга нарком просвещения Анатолий Луначарский выдвинул лозунг «Назад к Островскому!» и призвал радикальных художников отдать классику дань уважения. Эйзенштейн и Третьяков не особенно придерживались оригинала. Они разбили трехактную пьесу на несколько эпизодов, добавив в нее фарс и комментарии на злободневные темы. На сцене, напоминающей цирковую арену, персонажи прыгали, как клоуны и акробаты. Эмоции передавались посредством захватывающих трюков. В одной из сцен Штраух выразил свой гнев из-за карикатуры, бросившись на портрет головой вперед и разорвав его в кувырке. Эпизоды сменялись так внезапно, а ситуации были представлены настолько непонятно, что в начале каждого спектакля Третьяков зачитывал краткое содержание пьесы. Григорий Александров в роли Глумова проходил по канату, натянутому над головами зрителей, а в финале под сиденьями в зале взрывались петарды.

1.2 Спектакль Сергея Эйзенштейна «Мудрец», 1923
Для популяризации постановки Третьяков опубликовал в журнале «ЛЕФ» статью Эйзенштейна «Монтаж аттракционов», в которой режиссер объяснял, что театр может увлечь зрителя посредством математически просчитанных «агрессивных моментов» испуга или удивления. Третьяков одобрил теорию аттракционов как способ воздействия на психику зрителя в социальных целях. Летом 1923 года Эйзенштейн и Третьяков совместно написали текст, пересматривающий систему обучения актеров Пролеткульта. Концепция выразительного движения шла дальше теории биомеханики Мейерхольда, которую Эйзенштейн считал механистичной и бессистемной. Авторы выступали за «диалектическое» объединение механического движения с органическим. Выразительное движение, основа дальнейшего хода мыслей Эйзенштейна, стало промежуточным звеном между эксцентризмом и более естественной актерской игрой.
Агитгиньоль Третьякова «Слышишь, Москва?», поставленный Эйзенштейном в ноябре 1923-го, довольно сильно отличался от «Мудреца». Борьба рабочих за коммунизм в Германии и Венгрии была представлена смесью мелодрамы и гран-гиньоля. Большими абстрактными декорациями и карикатурными персонажами (финансист Паунд, художники Груббе и Граббе) пьеса напоминала протестные драмы немецкого экспрессионизма. Третьяков и Эйзенштейн сократили количество аттракционов и упростили действие, придав сценам больше целостности. Согласно свидетельствам очевидцев, реакция публики была бурной – зрители отвечали актерам из зала, а когда в кульминации выкрикивалось название пьесы, в аудитории слышался громкий гул.
Последней постановкой Эйзенштейна в Пролеткульте весной 1924 года стала пьеса Третьякова «Противогазы». В ней также прослеживалось влияние немецкого экспрессионизма, но теперь место действия было настоящее – Московский газовый завод. Годом раньше Мейерхольд уже использовал на сцене мотоциклы и пулеметы в своем спектакле «Земля дыбом», а теперь зрители, которые сидели на скамейках среди станков, окруженные звуками и запахами завода, наблюдали, как актеры взбираются на турбины и бегают по помостам. Агитмелодрама рассказывает о директоре завода, который растрачивает фонды, и в результате, когда обнаруживается утечка газа, на заводе не оказывается противогазов. В финале каждого спектакля рабочие выходили на смену и открывали форсунки, заливая завод светом.
Три спектакля Эйзенштейна в Пролеткульте были довольно разными, он экспериментировал в них так же, как экспериментировал с новым материалом и методами во всех своих немых фильмах. В «Мудреце» эксплуатировались эпизодичность и эксцентризм; раздутый карикатуризм в «Слышишь, Москва?» напоминал о «Мистерии-буфф»; в «Противогазах» более логичный, последовательный сюжет помещен в обстановку, из которой убрана театральная условность.
Весной 1924 года Эйзенштейн предложил Пролеткульту снять цикл из семи агитационных фильмов «К диктатуре» (подразумевалась диктатура пролетариата, о которой писал Маркс). Цикл должен был показать революционное движение в России до 1917 года, кульминацией которого стала Октябрьская революция. На тот момент у Эйзенштейна не было профессионального опыта работы в кино. Зимой 1922–1923 гг. он недолго учился в мастерской Льва Кулешова, а для спектакля «Мудрец» снял короткометражный фильм «Дневник Глумова» (1.3). Весной 1923 года он помогал Эсфири Шуб перемонтировать картину «Доктор Мабузе, игрок» для советского проката. Но, несмотря на недостаток опыта, он взялся за «Стачку», пятый фильм задуманного цикла, и, таким образом, бросил многообещающую театральную карьеру. Он написал: «Воз разлетелся в куски. Возница ушел в кино» [44].
Немые фильмы
Кино, в которое попал Эйзенштейн, предоставляло особые возможности. В эпоху нэпа советская киноиндустрия работала практически в условиях рынка. Ее восстановление после революции и Гражданской войны происходило в основном за счет импорта иностранных картин. Была создана централизованная организация Госкино (позже – «Совкино»), которая за определенную долю дохода выдавала частным компаниям разрешения на производство и дистрибуцию фильмов. Советские картины конкурировали в прокате с иностранными и должны были приносить прибыль. Участие правительства по большей части ограничивалось покупкой пленки для Госкино и поощрением текущих проектов, посвященных популяризации новой политики и памятным революционным датам. Такие проекты и давали новые возможности Эйзенштейну и другим левым режиссерам.

1.3 «Дневник Глумова», первый фильм Эйзенштейна, снятый для спектакля «Мудрец»
Госкино дало разрешение на съемки «Стачки», и Эйзенштейн написал сценарий совместно с Александровым и другими коллегами. Он выбрал латвийского оператора Эдуарда Тиссэ, который раньше работал с кинохроникой, а впоследствии снял все фильмы Эйзенштейна. «Стачку» сняли и смонтировали в очень короткий срок, в июне – декабре 1924 года. Действие картины происходит при царе, цель фильма – показать условия, которые спровоцировали Октябрьскую революцию, и методы, с помощью которых большевики организовали борьбу рабочего класса. И хотя другие фильмы из цикла «К диктатуре» так и не сняли, «Стачка» показала, что Эйзенштейн – многообещающий молодой режиссер.
Фильм многое заимствует из спектаклей Пролеткульта. Акробатические драки и клоунские шпионы напоминают «Мудреца», а фабричные маховики и лабиринты лестниц – «Противогазы». Как и в постановке «Слышишь, Москва?», персонажи становятся абстрактными фигурами (капиталисты, полицейские, рабочие), при этом злодеи показаны гротескно и комично, а рабочие – в более реалистичной манере. Также в финальном кадре с глазами, которые смотрят в зал, и назидательном титре «Помни, пролетарий!» используется прямое обращение к зрителю.
«Стачка» не понравилась руководству Пролеткульта, которое раскритиковало фильм за склонность к «излишнему, самоцельному формализму и трюкизму», а также за «сомнительные моменты фрейдистского толка» [45]. Эйзенштейн ушел из Пролеткульта. Критики приняли фильм лучше, газета «Правда» хвалила его как «первое революционное произведение нашего экрана» [46]. Эйзенштейн дополнил выход фильма резкой, нескромной статьей «К вопросу о материалистическом подходе к форме», в которой нападал на документалиста Дзигу Вертова и призывал к созданию «кинокулака», чтобы «кроить по черепу» зрителя[47].