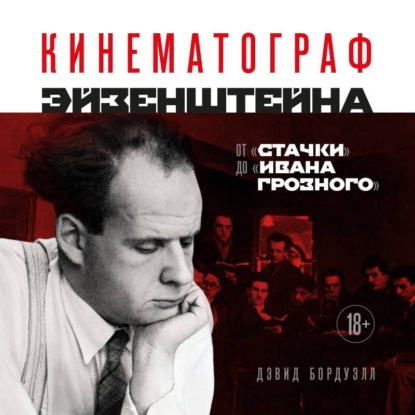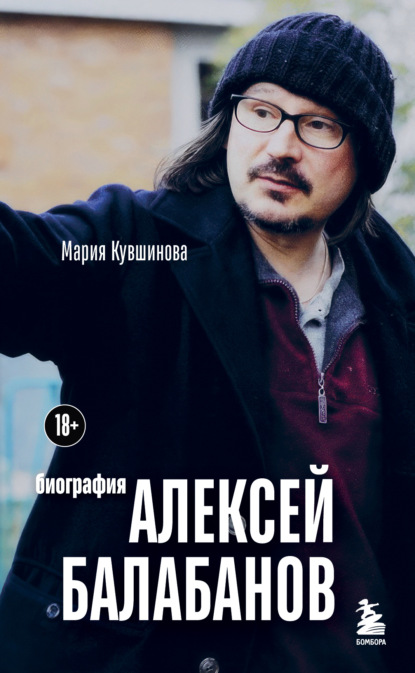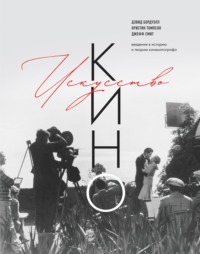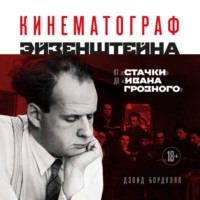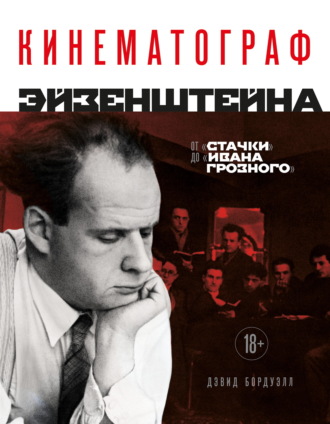
Полная версия
Кинематограф Эйзенштейна. От «Стачки» до «Ивана Грозного»

Дэвид Бордуэлл
Кинематограф Эйзенштейна. От «Стачки» до «Ивана Грозного»
Памяти Джея Лейды и Майкла Гленни
Серия «Наше кино. Книги об отечественном кино от 1896 года до наших дней»
David Bordwell
THE CINEMA OF EISENSTEIN
© 2005 by Taylor & Francis Group, LLC
All Rights Reserved
Authorised translation from the English language edition published
by Routledge, a member of the Taylor & Francis Group LLC
Перевод с английского Л. Мезеновой

© Лариса Мезенова, перевод на русский язык, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
От автора
Этому проекту великодушно помогали очень многие. Коллеги из Висконсинского университета в Мэдисоне вносили полезные комментарии на еженедельных обсуждениях отрывков книги. Бен Брюстер, Ноэль Кэрролл, Том Ганнинг и Юрий Цивьян терпеливо читали рукопись и высказывали критические замечания и предложения. Кристин Томпсон давала неоценимые советы, делилась оригинальными мыслями и редкой информацией, а также перепечатала фотографии для этого издания.
Некоторые идеи книги зародились на семинаре по Эйзенштейну в 1989 году, и я благодарю его участников, особенно Джона Мини, Дага Риблета, Джиллиан Стейнбергер, Грегори Тейлора и Сюзан Зикмунд. Джон также был незаменим в поиске материала на русском языке и его переводе. Важную роль в этом проекте сыграли предложения и критические замечания Вэнса Кепли, с которым мы вместе проводили семинар. Этот текст вырос из плана книги, которую мы собирались написать. Многие идеи сформировались в обсуждениях с ним, а его въедливые замечания пошли рукописи на пользу.
Благодаря щедрому гранту от магистратуры Висконсинского университета в Мэдисоне книгу удалось сделать более полной, чем я считал возможным. Я закончил ее в 1991 году, когда получал стипендию Фонда Саймона Гуггенхайма. Благодарю фонд за поддержку.
В работе мне помогали и другие люди: Джон Белтон, Оксана Булгакова, Эд Баскомб, Йэн Кристи, Мэри Корлисс, Максин Фрекнер-Дюси, Майкл Гленни, Эдоардо Гросси, Берт Харрис, Дон Кирихара, Арун Хопкар, Джеффри Новелл-Смит, Елена Пинто Саймон, Алан Апчерч и Александр Жолковский. Я также благодарю сотрудников библиотеки Музея современного искусства, Нидерландского музея кино, факультета фотографии Нью-Йоркского университета и Висконсинского центра исследований кино и театра. Я в особом долгу перед покойным Жаком Леду, куратором Королевского киноархива Бельгии, перед его преемницей Габриэль Клаас и высокопрофессиональными сотрудниками архива.
Как всегда, Мемориальная библиотека Висконсинского университета в Мэдисоне и книжный магазин Seminary Coop в Чикаго помогли найти редкие исследовательские материалы.
Отрывки, использованные в главе 4, первоначально были опубликованы в Millennium Film Journal, и я благодарю редакцию за разрешение включить их в книгу.
Любой изучающий советское кино в долгу перед редакторами и переводчиками, благодаря которым тексты становятся доступны более широкой аудитории. Поэтому я выражаю признательность Жаку Омону, Майклу Гленни, Науму Клейману, Джею Лейде, Герберту Маршаллу, Айвору Монтэгю, Пьетро Монтани, Хансу-Йоахиму Шлегелю, Ричарду Тейлору и Алану Апчерчу – «железной десятке», которая хорошо послужила Эйзенштейну.
Предисловие ко второму изданию
С момента выхода этой книги десять лет назад интерес к Эйзенштейну не ослаб. «Броненосец „Потемкин“» по-прежнему входит в десятку лучших фильмов всех времен и народов журнала Sight and Sound[1]. Столетний юбилей со дня рождения режиссера в 1998 году ознаменовался выходом книг, документальных картин и даже биографического фильма. В архивах, открывшихся после распада СССР, обнаружилась масса неопубликованных текстов, черновиков и заметок. Благодаря DVD в отличном качестве стали доступны хорошие копии некоторых его работ, а также материалы, которые раньше никто не видел. А ведь есть еще и интернет.
Если подходить к этой лавине информации серьезно, мне придется переписать всю книгу. А поскольку любая работа об Эйзенштейне – это процесс, в 2014 году, скорее всего, понадобится следующая ревизия. Я пришел к выводу, что «Кинематограф Эйзенштейна» будет более цельным, если оставить текст в первоначальном виде, со всеми недостатками. Тем не менее стоит упомянуть наиболее интересные варианты переосмысления наследия Эйзенштейна, о которых речь идет также в последней главе.
Во-первых, у нас появилось гораздо больше информации об условиях, в которых он работал. В 1960–1970-е гг. Питер Уоллен и Аннет Майклсон поставили Эйзенштейна в контекст советского конструктивизма, благодаря чему мы взглянули на него другими глазами [2]. Новые исследования, посвященные работе Эйзенштейна в театре, напомнили, насколько актуальны для него были конструктивистские взгляды [3]. Особенно показательна книга Альмы Лоу и Мела Гордона [4]. Это собрание текстов, снабженное подробными комментариями, показывает, как много взял Эйзенштейн у своего «духовного отца». Теорию выразительного движения Эйзенштейна по большей части можно рассматривать как переосмысление, расширение и систематизацию теорий Мейерхольда. Например, очевидно, что позиция Эйзенштейна касательного того, что актерская игра должна заражать зрителя нужными эмоциями, берет начало в биомеханике Мейерхольда, которая, как объясняют Лоу и Гордон, является не столько стилем актерской игры, сколько системой упражнений.
Если работы 1970-х гг., посвященные Эйзенштейну, объединяла тема конструктивизма, то в последние два десятилетия на первый план вышел соцреализм. Раньше сталинское кино считалось неприкрытым китчем, но сейчас его начали серьезно изучать [5]. Эрик Шмулевич написал «Социалистический реализм» – содержательное и информативное исследование [6], а Наташа Лоран подробно рассмотрела советскую цензуру [7] и выпустила яркое собрание текстов о сталинском кинопроизводстве [8]. Большинство современных работ обращают основное внимание на идеологический посыл сталинского кино, практически игнорируя его художественные качества. В этой книге я утверждаю, что монументальные ленты 1930-х и 1940-х гг. имеют для истории кино подлинную стилистическую ценность, и рассматриваю эту тему более подробно в другой работе[9]. В главах 5 и 6 я выдвигаю предположение, что некоторые новаторские решения Эйзенштейна возникли в диалоге с массовым кино сталинской эпохи, и развиваю эту тему в отдельном тексте [10].
Новый подход к кино сталинской эпохи дополняет свежая информация о деятельности Эйзенштейна в тот период. Появились новые сведения о «Бежином луге» [11], о педагогической деятельности режиссера [12] и его пушкинском проекте [13]. Татьяна Егорова помогла лучше понять «песенные» фильмы, а также традиции создания музыки к кинокартинам, в контексте которых сформировались «Александр Невский» и «Иван Грозный» [14]. На DVD «Александра Невского», изданном Criterion, Рассел Меррит подробно разбирает музыку Прокофьева, а мой комментарий к этому же изданию расширяет анализ, представленный в главе 6. Барри Шерр написал как о многочисленных литературных и фольклорных источниках, из которых вырос «Невский», так и о первоначальных черновиках сценария [15]. Кроме того, признание «Ивана Грозного» шедевром привело к созданию двух прекрасных монографий об Эйзенштейне. В работе «Иван Грозный» Джоан Ньюбергер рассказ о производстве картины с использованием ранее неизвестных документов сочетается с подробным анализом ее художественного замысла [16]. В процессе автор ставит фильм в более широкий исторический контекст, начиная с древнерусских традиций, заканчивая политическими и культурными событиями того времени. Объемная монография Юрия Цивьяна представляет собой совершенно другой, но не менее свежий подход [17]. Цивьян рассматривает визуальный ряд «Ивана» сквозь изменчивую паутину отсылок, аллюзий и ревизий. Эскизы Эйзенштейна ведут от Шагала к средневековым рукописям и алхимическим символам. Еще пышнее эта работа расцветает в мультимедийном эссе в дополнительных материалах на DVD‑издании Criterion.
И самое интересное, теперь, когда исследователи начали изучать огромный пласт работ Эйзенштейна, накопившийся в государственных архивах, и его личные документы, собранные Наумом Клейманом, мы получили гораздо более ясное представление о личной жизни Старика . Захватывающая биография, написанная Оксаной Булгаковой, изображает полную энтузиазма, но истерзанную личность. Он присягает на верность новому советскому государству, но заигрывает с масонством и вступает в общество розенкрейцеров. Его крайне интригуют Фрейд, Юнг и оккультизм. Он изображает интерес к разным женщинам, держит на даче плакаты с красотками и отчаянно пытается подавить свои наклонности при помощи психоанализа и гипнотерапии. В то же время он мучится из-за политических компромиссов, на которые идет. Во время скандала с «Бежиным лугом» он пишет в дневнике:
«Неужели мне самому неясен голос моих творческих неудач, поражениями идущих от самого „Потемкина“? Ясно мне это стало в ночь после трагедии „Октября“. Но я как бл***, не могу не заигрывать с собственным творчеством. Говорить нет, а делать все же» [18].
Булгакова подробно показывает, что Эйзенштейн в последние годы жизни пишет мемуары с целью создания «биографического мифа», как это называли русские формалисты.
Тенденция рассматривать Эйзенштейна как философа искусства, начавшаяся в 1980-е гг., по-прежнему жива. Из множества любопытных работ о его точке зрения на эстетику две мне кажутся особенно ценными – сочинение Хокана Лёвгрена об интересе Эйзенштейна к оккультным и мифологическим аспектам искусства, а также систематизированный взгляд на концепцию искусства позднего Эйзенштейна, предложенный Анной Бон [19]. Разносторонним способностям Эйзенштейна в работе со смежными искусствами посвящены исследования его деятельности в качестве театрального режиссера [20], художника-графика [21] и даже хореографа. Теоретик современного танца Салли Бэйнс сделала реконструкцию «Последнего разговора», – мини-балета Эйзенштейна о смерти Кармен [22].
Большинство новых исследований основывается на малоизвестных или ранее недоступных материалах, представляющих собой как законченные тексты, так и неформальные заметки. Эти документы имеют огромную ценность для биографов и историков. Они могут многое рассказать как о фильмах Эйзенштейна, примером чего служит работа Цивьяна с набросками сцен и заметками, так и о его теориях. В частности, эти архивные материалы поднимают нелишний вопрос о том, как мы понимаем теорию Эйзенштейна и эстетическую теорию в целом.
Задача теории в любой области естественных или гуманитарных наук – последовательный поиск ответов на вопросы о каком-либо феномене на определенном уровне абстракции. Ответы представляют собой тезисы, которые связаны друг с другом выводами, доказательствами и аргументацией. Таким образом, задача теории кино – последовательный поиск ответов на вопросы о свойствах и функциях кино. Такие работы по теории кино, как тексты Эйзенштейна, обычно имеют следующую структуру: формулировка проблемы/вопроса, аргументы в пользу наиболее плодотворных способов поиска решения/ответа, обзор этих аргументов, сравнение с альтернативными точками зрения и так далее. В этой книге я утверждаю, что Эйзенштейн в разное время творческого пути публиковал работы, в которых высказывал две разные точки зрения на киноформу и ее воздействие на зрителя, основанные на разных концепциях человеческого мышления и эмоций.
Некоторым моя концепция теории покажется слишком строгой, но на самом деле она лишь проводит грань между выстраиванием теории и простыми размышлениями. Не все мысли о кино являются теорией кино. Озарения, раздумья, рассуждения, предпочтения, вкусы, вспышки прозрения, обзор аналогий, метафоры и каламбуры могут перерасти в выстроенную теорию, но сами по себе теориями не являются. Если исследователю кажется, что кино похоже на сон, для проверки этой точки зрения можно разработать множество совершенно разных теорий. Суждение – это в лучшем случае латентная теория, зачаток. Также важно, что суждение – это монолог, тогда как теория выстраивается в процессе диалога и ответов на возражения и контраргументы.
Как же тогда быть с неопубликованными сочинениями Эйзенштейна, особенно с набросками, сделанными со скоростью мысли? Они объясняют непонятные или неоднозначные моменты в опубликованных работах и дают больше доказательств и примеров. Они подсказывают направление, в котором могли развиваться теории, или указывают на источники вдохновения. Эйзенштейна интересовали в основном вопросы художественной формы (и конкретно киноформы), и он искал в мировой культуре все, что могло бы пролить на них свет. Теперь мы знаем, что он был даже более эклектичен, чем можно было предположить по опубликованным работам, поскольку избегал упоминать в них авторов, не считавшихся идеологически корректными.
Психоаналитические идеи редко встречаются в опубликованных сочинениях Эйзенштейна, но преобладают в работах, которые он писал в стол. Прекрасным примером служит статья 1925 года «„Луч“ и „Самогонка“». Этот критический разбор картин Кулешова и Эрмлера [23] можно назвать психоаналитическим антиподом более известного текста того же года «К вопросу о материалистическом подходе к форме». Эйзенштейн немного в духе Кеннета Берка утверждает, что определенные типы художественной формы строятся на сублимации извращенных влечений. Эйзенштейна всегда привлекала агрессивность формы и образов, и он обнаруживает у Гриффита и Штрогейма явные признаки садизма, что делает их картины «ни с чем не сравнимыми по потрясающему эффекту» [24]. Михаил Ямпольский распутывает этот запутанный текст и показывает, что конкретно он заимствует у Фрейда, Кляйн и других представителей традиции [25]. Есть еще более черновые заметки, в которых Эйзенштейн формулирует свои поздние идеи о том, что он называл MLB – MutterLieB, – не просто о материнской любви, а о поглощении ребенка материнским чревом. Если в 1930-е он писал о возвращении к «дорациональному» состоянию, то теперь Эйзенштейн вторит психоаналитику Отто Ранку и утверждает, что при восприятии произведений искусства люди регрессируют до внутриутробного состояния. По его мнению, через символизм кругов и концентрических форм это является универсальным графическим приемом, а также основой драматургии «Ивана Грозного» [26].
В «Кинематографе Эйзенштейна» я не касаюсь этой стороны его творчества, и не только потому, что считаю фрейдистскую традицию одной из главных интеллектуальных катастроф XX века. Его психоаналитические аргументы иногда носят (даже) более спекулятивный характер, чем антропологические, и часто психоаналитические идеи, подобные идее о MLB, появляются у него в процессе бесконечных обдумываний новых прочтений «Ивана», которым он предавался в конце 1940-х. Тем не менее сейчас я думаю, что мой акцент на психологических и социокультурных посылках двух его теоретических этапов нужно уравновесить мыслью, которую он высказывал неоднократно, – что у художественной формы есть также психобиологические и архетипические истоки.
Чем больше мы знаем об истоках, которые питали его мысли и его фильмы, тем лучше. Как и в случае с Кольриджем, еще одним художником, ориентированным на фрагментарность, известные нам аспекты интеллектуальной жизни помогают понять художественные произведения и происхождение теорий. Зная о том, как Эйзенштейн восхищался Диснеем, мы можем оценить увлекательную работу Анны Несбет, в которой она проводит сравнение диснеевской анимации с мотивами в фильмах советского режиссера [27]. Но если эссе носят свободный характер, они не идут ни в какое сравнение с морем пометок, метафор и цитат в неопубликованных материалах. В дневниках мы видим то, что Ямпольский назвал «теория как цитата» [28].
В этом отношении наш герой кажется очень современным. Тексты постструктуралистов часто строятся на свободных ассоциациях; вымученные каламбуры, натянутые аналогии и необоснованные обобщения в них приветствуются и считаются своего рода игрой. Если у нас возникнет желание, мы можем строить свободные ассоциации на его свободных ассоциациях, каламбуры – на его каламбурах и жонглировать пометками на полях. Но я считаю, что, поскольку в его аргументации часто есть резкие переходы и отступления, мы тем более должны попытаться найти в ней последовательную линию рассуждений. Часто волны аналогий и цитат в его работах, как опубликованных, так и нет, расходятся из центра основных эстетических предпочтений – эффективности повтора с вариациями, потребности наполнить каждый момент материалом, захватывающим чувства, силы телесной актерской выразительности и, самое главное, способности формы воздействовать на зрителя психологически.
Более того, сам Эйзенштейн ценил связность. Как он неоднократно говорил, в рамках своих произведений и теорий он ищет единство. Например, психологические ассоциации, его обычный образ мысли, составляли также основу его концепции мышления. Нужно отдать ему должное, он стремился продемонстрировать, как ассоциации функционируют в кино (через взаимодействие мотивов, соотношение изображения и звука и т. д.), объяснить их формальную силу (сначала с помощью рефлексологии, затем – эмпирической психологии) и показать, что они могут дать ключ к понимаю того, как человек воспринимает искусство. Поклонники интеллектуального расчленения и распыления считают, что линейное мышление – это просто, но на самом деле это сложно, и, судя по всему, Эйзенштейну оно давалось тоже очень сложно. Он чувствовал необходимость собрать свои размышления в единую, стройную теорию кино. В свете того, что его также тянула центробежная сила, его достижения становятся еще более выдающимися.
Обладает ли теоретическая система Эйзенштейна подлинной широтой? Кто-то скажет, что его идеи применимы только к его собственным фильмам, но я считаю, что он предлагает вполне убедительные объяснения кинематографическим феноменам, которые можно найти не только в его творчестве. Возьмем, к примеру, его заявление, что при использовании выразительного движения в кадре режиссер может заставить зрителя почувствовать или даже повторить действия актера, а также что эту кинестетическую реакцию можно усилить с помощью композиции и монтажа (см. главу 3). Эта мысль хорошо объясняет визуальные качества и атмосферу многих сцен в его фильмах, но она имеет и более широкое применение. Идею Эйзенштейна воплотили в жизнь некоторые гонконгские кинематографисты 1980-х; они самостоятельно обнаружили, что ритмичное стилизованное движение можно акцентировать кадрированием, монтажом и звуком, чтобы вызвать кинестетическую реакцию аудитории [29]. Идея Эйзенштейна имеет более широкое применение, чем он предполагал, и это добавляет ей убедительности.
Гипотеза о моторной мимикрии подтверждается нейрофизиологией. В лобных долях мозга есть «моторно-командные нейроны», они активируются для выполнения определенных действий, таких как толкание, притягивание к себе, захват, но некоторые активируются также, когда мы наблюдаем, как эти действия выполняет другой человек [30]. Если высунуть язык, новорожденный младенец повторит это движение. При наблюдении за армрестлингом заметно дергаешь рукой, при виде человека, выражающего боль или отвращение, непроизвольно копируешь его выражение лица, иногда за одну пятидесятую секунды [31]. Открытие «зеркальных нейронов» может не только объяснить нашу способность чувствовать психическое состояние других людей, что имеет решающее значение для эволюции человека как вида, но и нашу реакцию на такие аудиовизуальные искусства, как кино. Задача кинематографиста – найти способ направить и усилить эту реакцию посредством киноприемов.
Примерно то же самое можно сказать об идеях Эйзенштейна по поводу синестезии, способности, которая в той или иной степени есть у каждого, но у художников встречается в семь раз чаще [32]. Один исследователь синестезии приходит к выводу, что это явление предполагает такую модель мышления, где главной движущей силой становятся эмоции [33]. Можно предположить, что Эйзенштейн, который верил в рефлексы и дружил с исследователем мозга Александром Лурией, обрадовался бы таким эмпирическим подтверждениям его заявлений о силе кино.
«Кинематограф Эйзенштейна» – попытка нащупать у этого неутомимо эклектичного художника достаточно стройную теорию и метод. Что он дал истории кино, теории кино и самому кино? Я утверждаю, что он стремился соединить теорию и практику при помощи подхода, ориентированного на мастерство, который я называю традицией техне. Две обширные области, которые его интересовали, монтаж и выразительное движение, были для него одновременно теоретическими категориями и направлениями творчества. Я стараюсь показать диалог между изложенной в текстах теорией и работой с повествованием и стилем в фильмах. С моей точки зрения, важным этапом слияния теории и практики стала для него педагогическая деятельность, которая дала жизнь идеям о форме и стиле. Например, композиция кадра в «Иване Грозном» вытекает из концепции мизанкадра, разработанной во время преподавания.
В то же время я стараюсь вписать теоретические и практические работы Эйзенштейна, а также его интерес к техне в традиции советской и европейской культуры. Его до сих пор считают образцом бунтаря-модерниста, но источники его вдохновения необыкновенно многообразны. Его увлечение конструктивизмом далеко от стандартного поклонения машинам, и он старался поставить соцреализм на настоящую эстетическую основу, используя канонические для авангарда приемы (символизм, джойсовская техника повествования). Мой Эйзенштейн – эстетический оппортунист, которого вдохновляют все виды искусства, который ради создания захватывающего кинозрелища трансформирует укоренившиеся догмы и пропагандистские лозунги. Но этому изощренному изобретателю не чужда страсть. Творчество – это не всегда холодная голова, и его фильмы по многим параметрам, как мы сейчас говорим, зашкаливают. Для изучающих поэтику кино он интересен тем, что готов дать буйному воображению вылиться в головоломные, возбуждающие чувства формы.
При этом нарисованный мной портрет не исчерпывающий. Блестящее творчество Эйзенштейна, его плодовитый ум, а также увлекательная, неординарная жизнь гарантируют появление множества новых его портретов в будущем. Пухлый человечек с копной непокорных кудрей долго будет с нами.
Мэдисон, Висконсин
Ноябрь 2004 г.
Предисловие
Сергей Эйзенштейн стоит в каноне прочно, даже грозно. Семьдесят лет его работы анализируют, толкуют, преподают, запрещают, восхваляют и осуждают. Большинство его фильмов завоевали известность сразу же, а многие его статьи стали для киноэстетики основополагающими. Начинающие кинематографисты всего мира изучают Эйзенштейна, когда осваивают азы профессии.
Это режиссер, о котором всем есть что сказать, как о Чаплине, Гриффите или Хичкоке. Зачем добавлять к куче литературы о нем еще одну книгу? Начнем с того, что у студентов и широкой публики нет простого введения в его творчество. Основная задача «Кинематографа Эйзенштейна» – сделать обзор его выдающегося вклада в теорию и искусство кино. Кроме того, за последние пятнадцать лет появилось несколько новых переводов и всплыло много неопубликованных документов. Вышли также новые версии фильмов, в частности на видео. У западных исследователей появилось гораздо больше возможностей для того, чтобы глубже понять его творческое наследие, такова и была моя цель.
Эйзенштейн был очень разносторонним человеком, театральным режиссером-новатором, одаренным художником-графиком, мыслителем, смело охватывающим широкие вопросы искусства и культуры. Но в этой книге он предстает в основном как режиссер и теоретик кино. Такой узкий фокус позволяет увидеть знакомого Эйзенштейна в новом историческом контексте. Например, я сопоставляю его фильмы с нормами советского кино того времени и ищу прообразы и параллели его идеям в более широкой интеллектуальной традиции. К тому же теперь мы можем рассматривать характерный для него сплав практики и абстрактной теории как вклад не столько в эстетику, сколько в поэтику кино, точный творческий и аналитический метод, который отталкивается от осмысления профессиональных приемов.
Структура этой книги вытекает из ее задачи. Первая глава – это описание жизни Эйзенштейна и его места в советской художественной среде. Также в ней я делаю предположение, каким образом обстоятельства жизни могли привести его к тому, чтобы объединить теорию с практикой.
Его карьеру полезно рассматривать как состоящую из двух частей, несмотря на общую цельность. Немой этап его творчества я разбираю отдельно. Затем я анализирую его преподавательскую деятельность, тексты и фильмы 1930–1940-х гг. Можно достичь прекрасных результатов, если смотреть на идеи Эйзенштейна в целом, но деление на два этапа дает возможность проследить важные перемены.