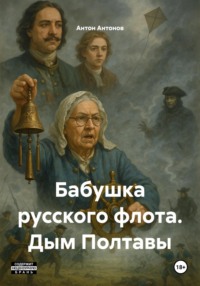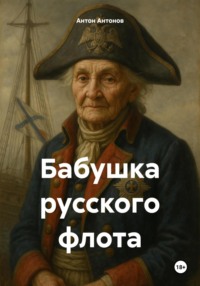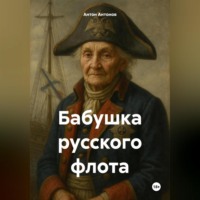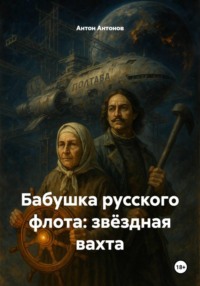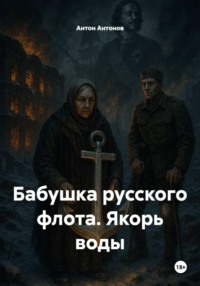Полная версия
Бабушка русского флота. Севастопольские грёзы
– Я буду заходить, – сказал он. – Наблюдать за вашими пациентами. С вашего разрешения.
– Работайте, – кивнула она. – Здесь работы на всех хватит.
Она отвернулась и пошла к следующему стонущему солдату – молоденькому юнкеру с пулевым ранением в грудь. Пуля прошла навылет, но было подозрение на начинающееся воспаление лёгкого.
Пирогов ещё несколько минут постоял, наблюдая, как она работает. Как её старые руки с невероятной нежностью ощупывают грудь юнкера, как она прикладывает ухо к его спине, слушая дыхание. Как она отдаёт чёткие, ясные распоряжения санитарам.
Он видел перед собой не просто старуху. Он видел систему. Живую, дышащую, невероятно эффективную систему спасения, рождённую на каком-то ином, неведомом ему опыте.
Фельдшер, всё ещё бледный, подошёл к нему.
– Господин профессор, вы действительно верите в её… бактерии?
Пирогов медленно повернулся к нему. Его лицо было серьёзным.
– Я верю в результат, – сказал он тихо. – А её результаты… они говорят сами за себя. Посчитайте, сколько её пациентов выживают после тяжёлых ран. И сравните со средним по госпиталю.
Он ещё раз окинул взглядом перевязочный пункт – этот ад, освещённый коптящими лампами, наполненный стонами и запахом смерти. И в этом аду он видел одинокую фигуру в чёрном платке, которая, казалось, знала дорогу отсюда.
– Делайте, как она говорит, – приказал он фельдшеру. – И учитесь. Учитесь, пока она здесь.
С этими словами Пирогов развернулся и вышел, оставив фельдшера в полном смятении. А Валерия Ильинична, не обращая внимания на шепотки и взгляды, продолжала свою работу. Одну рану за другой. Одну жизнь за другой.
Она знала, что не сможет объяснить им всё. Не сможет принести сюда антибиотики, организовать централизованную стерилизацию, внедрить систему сортировки раненых. Но она могла спасать тех, кого могла. Одного за другим. Как делала это всегда.
И когда она снова наклонилась над очередным стонущим телом, её губы беззвучно прошептали старую, как мир, молитву, которую она когда-то слышала от монаха в полтавском лазарете:
«Господи, дай мне силы изменить то, что могу изменить, терпение – принять то, что изменить не могу, и мудрость – отличить одно от другого».
Мудрости, как всегда, не хватало. Но сил – хоть отбавляй. Пока хоть один солдат на этом бастионе был жив, её силы не могли кончиться.
Глава 4. Солдаты без имён**
Они приходили к ней волнами, как приливы – грязные, окровавленные, испуганные. Они были разными – матросы с обветренными, загорелыми лицами, солдаты пехоты с землистым цветом кожи, юнкера с первым пушком на щеках и ещё детским страхом в глазах. У каждого был свой номер роты, батальона, корабля. Но имён у них для неё не было. Были – «милок», «сынок», «орёл». Были – раны, которые нужно было зашить, перевязать, ампутировать.
Она не спрашивала, как зовут. Не было времени. Не было смысла. Имя не остановит кровь, не выгонит гангрену, не снимет боль. Имя – это роскошь мирной жизни, тонкая плёнка цивилизации, которую война сдирала с человека, как кожу. Под ней оставалось голое, дрожащее от страха и боли существо, единственным желанием которого было – выжить.
Но постепенно, помимо её воли, они начали обретать черты. Не имена – судьбы.
Вот тот, с огнестрельным ранением в живот, который лежал неподвижно, уставившись в потолок землянки, и беззвучно шептал одно и то же: «Маша… прости…». Он умер на рассвете, так и не сомкнув глаз. Валерия сама закрыла их, грубыми пальцами проведя по векам. «Маша» осталась где-то далеко, в другом, чистом мире, где не пахнет йодоформом и смертью.
А вот другой – молодой, чернявый матрос с татуировкой якоря на груди. Ему оторвало осколком два пальца на левой руке. Когда Валерия, склонившись над ним, обрабатывала культи, он, стиснув зубы, с ненавистью смотрел на свои изуродованные кисти и хрипел:
– На кой чёрт они мне теперь, бабка? На гитаре не играть, девку за талию не обнять… Лучше б совсем оторвало!
Она, не глядя на него, туже затянула бинт.
– Жив остался, милок. Это главное. А девка, если умная, и за культю обнимет. Лишь бы человек был цел.
Он посмотрел на неё с удивлением, потом горько усмехнулся:
– Цел… Я-то цел. А вот брат мой, Колька… ему вчера на Малаховом голову снесло. Насовсем.
Валерия ничего не ответила. Что можно сказать? Все утешения на этой войне были ложью. Она лишь положила свою старую, узловатую руку ему на лоб – горячий, влажный от пота. И он внезапно замолк, закрыл глаза, и по его грязным щекам покатились слёзы.
Были и те, кто выживал. Вот тот самый матрос Федька, которого она с Дашей обрабатывала у орудия. Его рана на руке заживала, не воспаляясь. Он, как щенок, ходил за Валерией по пятам, пытаясь помочь – принести воды, подержать инструменты. Он смотрел на неё с обожанием, смешанным со страхом.
– Бабка Валерия, а правда, что вас пуля не берёт? – спросил он как-то раз, когда они вдвоём разбирали коробку с относительно чистыми бинтами.
Она взглянула на него поверх очков, которые нашла в своём саквояже и теперь использовала для тонкой работы.
– Берёт, Федя. Как и всех. Просто я её давно обмануть научилась.
– Как? – его глаза округлились.
– Не попадаться под неё, – сухо ответила она, и он расхохотался, поняв шутку.
Этот смех, звонкий и детский, прозвучал так странно в этом месте, полном страдания, что несколько раненых на топчанах обернулись и слабо улыбнулись. На мгновение в землянке стало светлее.
А ещё был он – артиллерист Степан. Ему было лет сорок, возраст для этой войны почтенный. Коренастый, молчаливый, с лицом, высеченным из сибирского гранита. Он получил контузию при разрыве ядра рядом с его орудием. Осколки посекли ему лицо и грудь, но самое страшное – он почти оглох и временно ослеп. Его принесли в полной прострации. Он не стонал, не плакал. Он просто лежал, уставившись в никуда своими невидящими глазами, и время от времени его тело содрогалось от внутренней дрожи.
Валерия подошла к нему. Она знала, что с такими делать. Не лекарства были нужны, а якорь. Точка опоры в рухнувшем мире.
Она села на край его топчана, взяла его огромную, мозолистую руку в свои. Он дёрнулся, пытаясь отдернуть, но она крепко держала.
– Степан, – сказала она громко и чётко, прямо ему в ухо. – Ты на батарее был? У орудия?
Он медленно кивнул, его губы шевельнулись:
– Орудие… Да… Пушка…
– Твоя пушка цела, – соврала она без зазрения совести. – Ребята её откопали. Стреляет.
Он снова кивнул, и в его неподвижном лице что-то дрогнуло.
– Стреляет… хорошо…
– А ты пока здесь полежи. Отдохни. Потом назад пойдёшь.
Она приходила к нему каждый день. Садилась рядом, брала его руку и говорила с ним. О простом. О том, что суп сегодня чуть гуще, чем вчера. О том, что дождь пошёл, и, значит, французы сегодня не полезут. О том, что слышно, как где-то далеко поют соловьи – она врала, соловьёв здесь не было с июля.
Постепенно он начал отвечать. Сначала односложно. Потом больше. Он рассказал, что у него в деревне под Воронежем осталась жена и трое детей. Что он плотничал до войны, строил дома. Что мечтал поставить новую избу, побольше.
– А ты, бабка, откуда? – спросил он как-то, его голос всё ещё был глухим, но в нём появились нотки жизни.
– Из тех же краёв, – ответила Валерия. – Только давно это было.
– А муж твой? Дети?
Она замолчала. Муж… Илья… Он лежал сейчас в полевом госпитале под Сталинградом, и она молилась, чтобы гангрена не забрала его. А дети… её единственная дочь, которую она почти не знала, родилась в 1950-м и умерла от рака в 1983-м. Временная петля в её голове затягивалась туже.
– Были, – коротко бросила она. – Война всех разбросала.
Степан, казалось, понял. Он больше не спрашивал.
Через неделю к нему начало возвращаться зрение. Сначала расплывчатые пятна света, потом очертания. Первое, что он увидел чётко, было лицо Валерии, склонившееся над ним.
– Бабка… – прошептал он, и в его глазах стояли слёзы. – А ты… старенькая, оказывается.
Она фыркнула:
– А ты думал, молодая краля за тобой ухаживает?
Он рассмеялся – грубым, хриплым, но настоящим смехом. И этот смех был для неё большей наградой, чем любая благодарность.
Именно в эти моменты – когда Федька смеялся, когда Степан начинал видеть, когда раненый матрос впервые после ампутации садился на койке – Валерия чувствовала, что её собственная, вековая усталость немного отступает. Она не лечила тела – она собирала по крупицам рассыпавшиеся человеческие души. И в этом странном, уродливом мире бастионного лазарета рождалась какая-то новая, причудливая семья.
Они – эти «милки» и «сынки» – стали её семьёй. Временной, хрупкой, обречённой, как и всё на этой войне, но – семьёй. Она ругала их, когда они пытались встать раньше времени. Подкладывала им свои скудные пайки. Стояла над ними ночами, когда их била горячка. И они, эти грубые, закопчённые войной мужики, платили ей той же монетой.
Они приносили ей то, что могли раздобыть – кусок сахара, банку консервов, выменянную у моряков, свечку. Один раз артиллеристы подарили ей настоящий, пусть и старый, офицерский бинокль – «чтобы, бабка, ты заранее видела, откуда эти французские шавки ползут».
Она брала эти дары молча, просто кивая. Слова благодарности здесь были не нужны. Всё было понятно без них.
Как-то вечером, когда работы было немного, она сидела у входа в землянку и чистила картошку для общих щей. Рядом, на ящике, сидел Степан, уже почти полностью пришедший в себя, и Федька. Они молча смотрели, как ловко её нож счищает грубую кожуру.
– Бабка Валерия, – вдруг сказал Федька. – А ты ведь не отсюда. Правда?
Она не подняла головы.
– А откуда я, по-твоему?
– Сказывают, ты из будущего, – серьёзно произнёс мальчишка. – Солдаты болтают. Говорят, ты всё знаешь заранее. И про раны, и про погоду, и когда штурм будет.
Валерия усмехнулась:
– Будущее, Федя, – штука сложная. Оно не такое, как в сказках. И знать его – не всегда счастье.
Степан, до сих пор молчавший, кивнул.
– Это верно. Иногда лучше не знать, что тебя ждёт. Лишь бы сейчас – тепло было. И чтоб свои рядом.
Он посмотрел на неё, и в его глазах, уже ясных, читалась не просто благодарность. Читалось принятие. Он принял её странность, её неоткуда взявшуюся мудрость, её старую, как мир, усталость. Она стала своей. Бабкой. Той, что всегда была и всегда будет.
Валерия закончила чистить последнюю картошину и бросила её в котёл.
– Ну, вот и всё, – сказала она, вставая и отряхивая подол. – Теперь варись, наша фронтовая отрава. А вам, – она глянула на Федьку и Степана, – идти отдыхать. Завтра опять работать.
Они послушно поднялись и пошли к своим землянкам. А Валерия ещё постояла, глядя на зарево над городом. Оно было всё таким же багровым. Таким же вечным.
Она думала о словах Федьки. «Из будущего». Да, она была оттуда. Она знала, что этот Севастополь падёт. Знало, что многие из этих «милков» и «сынков» не доживут до весны. Знало, что Россия проиграет эту войну. Но знала она и другое – что они, эти простые солдаты и матросы, уже победили. Победили самих себя. Свой страх. Свое отчаяние. И родили ту самую легенду о Севастопольской обороне, которая будет греть сердца ещё многих поколений.
А она, бабка Валерия, была здесь лишь скромной свидетельницей этой победы. И, может быть, в этом и был её главный, последний долг – не изменить прошлое, а просто быть рядом, когда творится история. Быть тем, кто подставит плечо, перевяжет рану, скажет нужное слово.
Она вздохнула и повернулась, чтобы войти в землянку. Её ждала ночная смена. Новые раненые. Новые «милки» и «сынки». Её большая, неугомонная, вечно воюющая семья.
Глава 5. Жизнь под землёй
Жизнь на бастионе подчинялась своему, уродливому и жестокому ритму, похожему на агонию. Утро начиналось не с пения птиц, а с первого залпа французской батареи с Зелёной горы. Свист ядра, впивающегося в бруствер, был их побудкой. День измерялся не часами, а количеством перевязок, ампутаций, вынесенных тел. Вечер определялся не заходом солнца, а тем, стихала ли канонада, давая хоть на час-другой возможность выйти подышать воздухом, который всё равно пах гарью и смертью.
Валерия Ильинична существовала в этом ритме, как шестерёнка в огромном, разбитом механизме. Её мир сузился до размеров перевязочного пункта и прилегающих землянок. Воздух здесь был густым, тяжёлым, пропитанным до самых костей. Он въелся в её платье, в платок, в кожу. Иногда, в редкие секунды забытья, ей казалось, что она сама стала частью этого запаха – смеси йодоформа, пота, крови и гниющей под бинтами плоти.
Работа была конвейером боли. Бесконечным. Один за другим. Рваная рана от штыка. Ожог от взрыва порохового заряда. Раздробленная кость от падения бревна. Контузия, после которой солдат несколько дней не мог говорить, только смотрел пустыми глазами и мотал головой. Она делала своё дело молча, автоматически. Руки сами знали, что делать. Сознание отключалось, чтобы не сойти с ума. Оставалась лишь мышечная память, отточенная столетиями.
Она не просто перевязывала – она управляла этим маленьким адом. Её низкий, хриплый голос, не требовавший повышения тона, заставлял суетиться фельдшеров и санитаров.
– Кипятку! Быстрее!
– Этот – на ампутацию. Того – в сторону, ему уже ничего не поможет.
– Бинты! Где бинты? Не эти, грязные! Подай из стерильного котла!
Её слушались беспрекословно. Даже Пирогов, заходя иногда, лишь молча наблюдал, кивал и уходил, не внося корректив. Он понял: здесь её царство. Её фронт.
Между потоками раненых находились минуты, когда можно было присесть, откинуться на спинку табурета и закрыть глаза. Но и в эти минуты покоя не было. Сквозь тонкую плёнку сна её сознание пробивали стоны, бред, чьё-то хриплое дыхание. Иногда ей снился звонкий смех Гаврилы на её кухне в 2025-м. Или голос Петра, кричащий что-то о смоле и парусах. А однажды – так явственно, что она вздрогнула и открыла глаза, – почудился запах яблоневого цвета из сада её детства, того, что был в Воронеже в конце 1930-х. Эти воспоминания были больнее любой физической усталости. Они напоминали, что где-то есть другая жизнь. Мирная. Но эта жизнь была так же недостижима, как звёзды, скрытые дымом над бастионом.
Она почти не ела. Проглатывала на ходу кусок хлеба, выпивала кружку горячего чая – и снова к столу. Тело её, несмотря на возраст, держалось на каком-то внутреннем стержне, на упрямой воле, не желавшей сдаваться. Но иногда, когда не было посторонних глаз, она прислонялась лбом к прохладной земляной стене землянки и стояла так несколько минут, пытаясь заглушить ноющую боль в спине, в ногах, во всём существе.
Именно в один из таких моментов к ней подошёл Степан. Он уже почти полностью восстановился, зрение вернулось, слух – частично. Его определили в нестроевые – помогать на кухне и таскать воду. Он подошёл тихо, по-медвежьи неслышно, и протянул ей жестяную кружку.
– На, бабка, – буркнул он. – Выпей. С мёдом.
Она с удивлением взглянула на него, потом на кружку. Мёд. Здесь, в аду. Это было сродни чуду.
– Откуда? – спросила она, принимая кружку. Тёплый, сладкий запах ударил в нос, вызвав почти забытое ощущение уюта.
– У меня свой запас был, – смущённо пояснил Степан. – С собой из дому привёз. Держал про чёрный день. Думаю, твой день и вовсе чёрный-пречёрный.
Она сделала глоток. Горячий, сладкий чай разлился по телу живительным теплом. Она закрыла глаза, наслаждаясь этим мигом простого человеческого участия.
– Спасибо, Степан.
– Пустое, – он отвёл взгляд. Потом, помолчав, добавил: – Ты тут одна за всех горой. И сама-то не ешь, не пьёшь. Так нельзя. Сломаешься.
– Я не сломаюсь, – тихо сказала она, делая ещё один глоток.
– Все ломаются, – возразил он с суровой прямотой. – Просто одни – сразу, а другие – потом. Изнутри. Ты держись, бабка. Ты нам нужна.
Эти простые слова «ты нам нужна» прозвучали для неё сильнее любых благодарностей. Она кивнула, не в силах вымолвить ни слова.
С этого дня Степан стал её негласным опекуном. Он следил, чтобы ей приносили еду. Иногда раздобывал где-то кусок сала или луковицу. Приносил相对 чистую воду для умывания. Он ничего не говорил, просто делал. И в этом молчаливом участии была та самая человеческая теплота, которая не давала ей окончательно превратиться в бездушный механизм по спасению жизней.
Но кроме Степана, были и другие. Солдаты и матросы, которых она лечила, платили ей самой простой, но самой дорогой валютой – доверием. Они шутили с ней, рассказывали о доме, иногда, в минуты слабости, плакали у неё на плече. И она, эта вечная странница, нащупала в этом аду ту самую точку опоры, которой ей так не хватало, – чувство нужности. Здесь и сейчас.
Однажды ночью, когда канонада стихла и в землянке стояла редкая тишина, нарушаемая лишь храпом и тяжёлым дыханием спящих, к ней подошёл молодой солдат с перевязанной головой. Он был из новобранцев, прибывших недавно. Его глаза были полы страха.
– Бабушка… – прошептал он. – Мне страшно. Я… я боюсь умереть.
Она посмотрела на него. Такой молодой. Почти мальчик.
– Все боятся, сынок, – сказала она, не пытаясь утешать. – И я боюсь.
– Вы? – он удивлённо округлил глаза.
– А что же? Я тоже человек. Просто я свой страх в карман прячу. И тебе советую. Боишься – делай вид, что не боишься. Сначала будет получаться плохо, а потом… а потом и правда станет не так страшно.
Он смотрел на неё, впитывая каждое слово.
– А… а что там? После?
Валерия вздохнула. Что она могла ему сказать? Что видела смерть тысячи раз и до сих пор не знала ответа? Что где-то там, за гранью, её ждал Пётр с трубкой и Илья молодым лейтенантом? Это было бы жестоко.
– После будет тихо, – сказала она наконец. – Но пока ты здесь – держись. За жизнь. За товарищей. За меня. Ладно?
Он кивнул, и в его глазах появилась твёрдость. Не уверенность, нет – просто решимость держаться. Он ушёл, а Валерия ещё долго сидела, глядя на тлеющие угли в железной печке.
Этот разговор заставил её о многом задуматься. Она была здесь не просто так. Она давала им не только медикаменты и перевязки. Она давала им силу. Ту самую силу, которую когда-то дал ей Пётр, а потом – Илья, а потом – Гаврила. Цепь продолжалась. И она, Валерия Ильинична, была в ней ещё одним звеном.
Утром, едва забрезжил рассвет, с бастиона донёсся крик: «Воздух!». Послышался нарастающий гул – не ядра, а что-то иное. Новое. Валерия выскочила из землянки и увидела в сером, предрассветном небе несколько тёмных точек. Аэростаты. Французы запустили аэростаты для корректировки стрельбы.
В следующую секунду начался самый страшный за всё время обстрел. Ядра сыпались градом. Земля ходила ходуном. Одно из ядер угодило прямо в соседнюю землянку, где располагался склад с медикаментами. Раздался оглушительный взрыв, столб дыма и пламени взметнулся в небо.
– Раненые! – закричал кто-то. – Там люди!
Валерия, не раздумывая, бросилась туда. Её не остановили ни свист осколков, ни падающие брёвна. Она увидела груду обломков, из-под которой доносились стоны. Солдаты уже раскапывали завал.
– Аккуратнее! – скомандовала она, подбежав. – Не тяните, подкапывайте!
Она сама встала на колени и начала разгребать горячие ещё обломки руками. Осколок стекла впился ей в ладонь, но она не обратила внимания. Она увидела окровавленную руку, торчащую из-под бревна.
– Жив! – крикнула она. – Тащите сюда лом!
Она работала вместе с ними, её чёрный платок покрылся пылью и золой, лицо исчертили пот и грязь. Когда наконец вытащили первого раненого – это был молодой санитар, – она тут же, на земле, под свист ядер, начала оказывать ему помощь. У него была сломана нога и рваная рана на голове.
Она не видела ничего вокруг. Только раны. Только людей, которых нужно было спасти. В этот момент она не была ни старухой, ни хранительницей времени. Она была просто человеком, который пытался отвоевать у смерти ещё одну жизнь.
Когда обстрел наконец стих, она, вся в крови и пыли, вернулась в свою землянку. Руки её тряслись от перенапряжения, в глазах стояла серая пелена усталости. Но когда она увидела, что все её «милки» и «сынки» живы, что перевязочный пункт уцелел, по её лицу пробежала тень улыбки.
Степан, молча, подал ей кружку воды. Она выпила залпом, чувствуя, как холодная влага возвращает её к жизни.
– Ну что, – хрипло произнесла она, оглядывая землянку. – Отдохнули? Теперь за работу. Бинты кончились – будем старые кипятить. Йоду нет – будем уксусом обходиться. Живы – и слава Богу.
И они снова засуетились, готовясь к новому дню, новой боли, новому подвигу выживания. А Валерия Ильинична, выпрямив спину, пошла к своему столу. Её ждала работа. Бесконечная, как сама война. Но теперь она знала – пока она здесь, этот бастион, эта землянка, эти люди – не падут. Она не позволит.
6 главу подробно и художественно на 10000 знаков
Глава 6. Письма из ниоткуда
Ночь выдалась на удивление тихой. Французы, измотанные дневными атаками, прекратили обстрел, и над бастионом воцарилась непривычная, почти звенящая тишина. Лишь изредка доносился одинокий выстрел с кораблей в бухте, да где-то далеко, на Инкерманских высотах, перекликались часовые.
В перевязочном пункте тоже было относительно спокойно. Большинство раненых спали, убаюканные редкой передышкой и морфием, который Пирогов выдавал только в самых крайних случаях. Двое фельдшеров дремали, сидя на ящиках, склонив головы на сложенные на столе руки. Дежурная сестра, юная девушка с испуганными глазами, которую все звали Нюрочкой, тихо перебирала бинты в углу.
Валерия Ильинична сила на своём обычном месте – табурете у железной печки, в которой ещё тлели угли. Она не спала. Сон давно уже стал для неё редким и беспокойным гостем, приносящим не отдых, а лишь новые видения из других времён. Она сидела, уставившись на огонёк в печке, и слушала тишину. Она была обманчивой, эта тишина. В ней слышалось слишком многое – тяжёлое дыхание раненых, скрип половиц, собственное неровное сердцебиение. И голоса. Голоса из прошлого, которые никогда не умолкали в её голове.
Осторожно, словно боясь разбудить кого-то, она потянулась к своему старому, потертому саквояжу, стоявшему всегда рядом. Она не открывала его несколько дней. Не было ни времени, ни сил, ни – что самое главное – душевной крепости. Но сегодня ночью что-то сломалось внутри. Одиночество, всегда жившее где-то глубоко, под слоем усталости и работы, поднялось к горлу комом.
Она щёлкнула замками. Внутри, под стерильными бинтами и пузырьками с лекарствами, лежал небольшой, завёрнутый в промасленную тряпицу свёрток. Она вынула его, развернула. Письма. Несколько пожелтевших, истончившихся на сгибах листов, исписанных разными почерками. Её архив. Её боль. Её единственная связь с теми мирами, что остались позади.
Самое старое письмо было написано на грубой, почти папирусной бумаге. Чернила выцвели, но она знала каждую букву наизусть. Это была записка от Петра, переданная ей через одного из плотников в тот день, когда «Гото Предестинация» наконец сошла со стапелей. Всего несколько строк, нацарапанных торопливой, энергичной рукой: «Бабка. Корабль поплыл. Спасибо. Жди новых дел. П.А.». Она провела пальцами по этим строкам, и ей почудился запах смолы и табака. Та самая ночь, пронизанная ликованием и тоской, потому что она знала – скоро Штурвал вернёт её в её время, и она больше не увидит этого безумного царя с глазами бури.
Следующее письмо было датировано 1943 годом. Его писал Илья, её отец, уже оправившийся после ранения и получивший отпуск по ранению. Крупный, неуверенный почерк. «Дорогая бабушка Валерия (если вы это читаете). Я не знаю, кто вы на самом деле, но вы спасли мне жизнь. Я назвал дочь Валерией, как и обещал. Она родилась крепкой и здоровой. Мы никогда вас не забудем. Ваш вечный должник, Илья Кузнецов.» Она сжала листок так, что бумага хрустнула. Её папа. Молодой, живой. Он не знал, что пишет собственной дочери, которая спасла его за шесть лет до своего рождения. Временная петля сомкнулась, и боль от этого была острой и чистой.
И самое новое, самое страшное письмо. Распечатка на современной бумаге, уже успевшей пожелтеть. От Гаврилы. Датирована мартом 2025 года, всего за несколько дней до её последнего ухода. «Бабуль, я нашёл твои старые блокноты. Ты всё знала. Всё предвидела. Почему ты не сказала? Почему не остановила? Мы бы справились вместе. Я жду тебя. Каждый день выхожу к Гремячему Логу и смотрю на воду. Возвращайся. Твой Гаврила.»
Слёзы, горячие и солёные, выступили на глазах и покатились по её измождённым щекам, оставляя на пыльной коже чистые дорожки. Она не сдерживала их. Здесь, в этой ночной тишине, под храп раненых, она могла себе это позволить. Она плакала по всем им. По Петру, оставшемуся в своём веке. По Илье, так и не узнавшему правды. По Гавриле, который ждал её в пустой квартире на улице Авиастроителей.