Архитектура Доверия. Новая парадигма доверия в мультикультурных системах
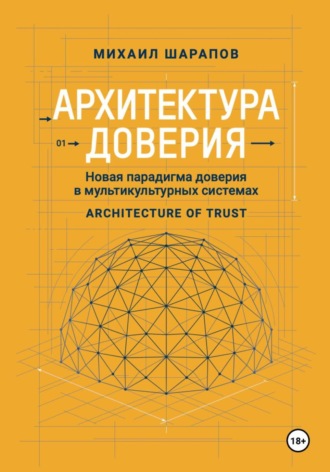
Полная версия
Архитектура Доверия. Новая парадигма доверия в мультикультурных системах
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу
