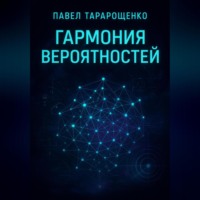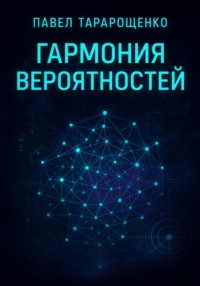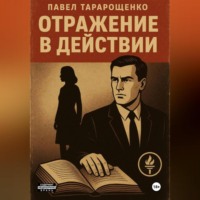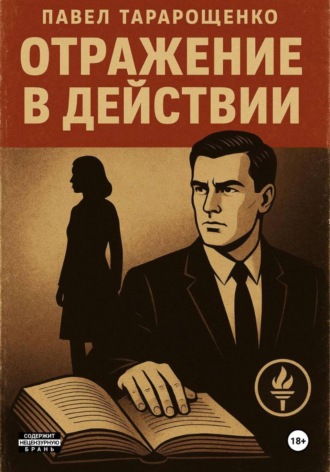
Полная версия
Отражение в действии
– Например, – продолжил он, – Рубинштейн говорил о «живой деятельности» человека. Мы не просто реагируем на мир – мы его преобразуем, и через действие раскрывается наша психика. Любое действие – это возможность мыслить, а не просто выполнять чужие команды.
Лена слегка нахмурилась:
– То есть, даже такие простые вещи, как приготовить ужин или сходить на рынок, – это форма мышления?
– Совершенно верно, – улыбнулся Алексей. – А Эльконин добавил, что игра – это важнейшая деятельность для развития ребёнка. Через неё формируются структуры мышления, которые потом используются во взрослой жизни. Но и взрослые, можно сказать, «играют» с задачами, моделируя ситуации, решая их.
Игорь задумался:
– А как же взрослые люди? Мы же давно не играем…
– Именно здесь на помощь приходит Гальперин, – сказал Алексей. – Он ввёл понятие «поэтапного формирования умственных действий». Если взрослый проговаривает свои шаги, как мы обсуждали, он как бы «репетирует» умственные операции. Он возвращается к собственному способу мышления, восстанавливает его.
– А остальные психологи? – спросила Лена, заинтересованно.
– Гинзбург изучал память и мышление в контексте деятельности, – пояснил Алексей. – Он показывал, что запоминание и понимание зависят не только от мозга, но и от того, как мы организуем своё действие и речь. А Запорожец исследовал взрослую деятельность и обучение взрослых: человек может переучивать себя, перестраивать мышление, даже когда кажется, что уже «поздно».
Игорь слегка приподнял брови:
– То есть, мы можем вернуть себе собственную голову, даже если давно вляпались в чужие сценарии…
– Именно, – подтвердил Алексей. – Проговаривая свои действия, обсуждая свои мысли, ставя задачи, мы восстанавливаем своё мышление. Не идеологически, не под чужие рамки, а своё. Речь становится инструментом освобождения.
Лена кивнула, слегка улыбаясь:
– И это работает не только с детьми, а и с нами, взрослыми…
– Абсолютно, – сказал Алексей. – Каждый, кто хочет думать самостоятельно, должен начать с собственной речи. Всё остальное – последствия.
Алексей присел рядом с сыном Игоря, наблюдая, как мальчик играет с конструкторами. Он обратился к Игорю и Лене:
– Давыдов создавал систему обучения, которая развивает теоретическое мышление, – начал он. – Главное отличие от обычного школьного подхода: ребёнок не просто повторяет действия взрослого, а сам открывает закономерности и общие принципы.
Он взял одну деталь конструктора:
– Смотри, если соединить эти части так, а затем так… что можно заметить?
Мальчик пробовал разные варианты, экспериментировал. Алексей объяснил:
– Давыдов выделял несколько ключевых моментов:
Проблемная ситуация – ребёнок сталкивается с задачей, которую нельзя решить механически; он вынужден искать закономерности.
Теоретическая обобщённость – ребёнок учится видеть, что отдельные действия подчиняются общему принципу.
Самостоятельное открытие – ребёнок сам формулирует правила и выводы.
Пошаговое усложнение – задания становятся сложнее по мере того, как ребёнок осваивает принципы.
– То есть это не просто игра, – тихо сказала Лена, – а способ научиться понимать «почему так».
– Именно, – подтвердил Алексей. – Давыдов считал, что через такие упражнения формируется научное мышление. Ребёнок начинает понимать законы, а не заучивать факты.
Он разложил перед мальчиком ещё несколько деталей:
– Попробуй сам собрать фигуру, следуя своей логике. Я буду наблюдать.
Мальчик начал пробовать, анализируя результаты своих действий. Алексей объяснил Игорю:
– Ключевое – не дать готовый алгоритм. Ребёнок сам делает шаги, исследует, делает выводы. Так формируется активная мыслительная позиция, способность самостоятельно решать задачи.
Игорь наблюдал за сыном и тихо подумал:
– Вот это… настоящий способ научиться думать, а не просто делать то, что скажут.
Алексей улыбнулся:
– Именно. Давыдов учил создавать условия, чтобы ребёнок становился исследователем, а учёба превращалась в процесс открытия, а не механического повторения.
Лена слушала, держа чашку в руках, слегка наклонившись к Алексею:
– А нейропсихология?
Алексей глубоко вздохнул, глядя на старый телевизор с западными боевиками, который всё ещё стоял на полке:
– Она красива в теории, – сказал он, – но реальность такая: нейроны – это не человек. Не мозг думает, а человек через мозг. Когда начинают сводить всё к биохимии, к картам активности мозга, – это тот же редукционизм. Человека разлагают на элементы, а его жизнь, смысл, творчество, воля остаются вне поля зрения.
Игорь посмотрел на сына, на Леныное лицо и тихо пробормотал:
– Так вот почему я никогда не понимал этих тренингов. Всё как игрушки, а жизнь настоящая совсем другая…
Алексей кивнул, чуть улыбнувшись:
– Советская психология – другое. Она видит человека как активного субъекта, творца, как того, кто развивается в обществе, через деятельность и речь. Не через тесты и стимулы. Даже ребёнок, которого мы наблюдаем, – не просто объект наблюдения. Через обучение, задавание задач, диалог, мы можем развивать его мышление, творческое начало. И это работает с любым человеком – взрослым или ребёнком.
Лена отставила чашку, слегка поразившись:
– И получается, всё буржуазное… – она замолчала, не находя слов.
Алексей кивнул и поставил коньяк на стол:
– Да. Оно красиво звучит, как наука, как прогресс. Но оно лишает человека самостоятельности мышления, превращает в набор программ, скриптов, реакций. В этом и трагедия: люди думают, что развиваются, а на самом деле лишь обучаются подчиняться чужим шаблонам, рекламе, модным идеям.
Сын дернулся, уронив шоколадку, и Алексей мягко улыбнулся:
– Смотрите, даже это – элемент развития. Он учится, он пробует, он действует. В буржуазной психологии его просто измерили бы и оставили с графиком. А здесь… здесь начинается настоящая жизнь, мышление, творчество.
Игорь смотрел на сына, потом на Алексея, и впервые почувствовал, что понимание мира не обязательно приходит через телевизор, тесты или журналы. Оно приходит через внимание, через наблюдение, через диалог и действия.
Вечер опустился на квартиру Игоря. За столом лежал торт по-киевски, рядом стояла бутылка коньяка. Игорь разрезал торт, сын держал маленькую вилку, Лена аккуратно расставляла чашки. Алексей внимательно наблюдал за ними, его профессиональный взгляд быстро считывал все детали: как они сидели, как распределяли внимание, как велась беседа.
– Лена, – начал Алексей с улыбкой, – вы спрашивали о подходах, о методах. Давайте я попробую сразу провести маленький «разбор полётов».
Он взял торт, разрезал кусок и положил его на тарелку сына, прежде чем продолжить.
– В буржуазной психологии есть множество школ, каждая по-своему пытается объяснить человека. Фрейдизм, например, опирался на бессознательное и сексуальные импульсы. Он разложил психику на ид, эго и суперэго и полагал, что всё поведение определяется скрытыми желаниями. Советская психология считала это упрощением. Фрейд редуцировал человека, превращал его в набор инстинктов, игнорируя социальное и историческое.
Игорь кивнул, не полностью понимая все термины, но чувствуя, что речь шла о его собственной жизни.
– Бихевиоризм, – продолжил Алексей, – учил, что всё поведение – результат стимулов и реакций. Всё, что человек делает, обусловлено внешней средой. Это удобно для экспериментов, но человек не только стимул-реакция. Советская школа считала, что сознательная деятельность, речевое мышление, исторические и социальные условия формируют личность, а не только «нажатие рычажка».
Он посмотрел на сына, который играл с вилкой, и тихо улыбнулся.
– Гештальтпсихология учила видеть целое, структуры и конфликты внутри личности. На первый взгляд это казалось глубоким, но оставалось абстракцией. Не объяснялось, почему формируется именно такое целое и как оно связано с социальными условиями.
– Трансактный анализ, гуманистическая психология, трансперсональная психология, юнгианская аналитическая психология – все эти школы концентрировались на внутреннем мире, архетипах, самореализации, внутреннем росте. Но они игнорировали историческое и материальное основание жизни человека. Они создавали миф о «сильной личности», которая могла быть полностью автономной, хотя реальная жизнь показывала, что человек всегда ограничен социальными и экономическими условиями.
Алексей сделал паузу, посмотрел на Игоря:
– Когнитивная психология утверждала, что мышление – это переработка информации, что человек – вычислительная машина. Это редукционизм, подобный бихевиоризму, только на уровне «мыслящего мозга». Она не объясняла, как человек формирует цели, как он меняется через совместную деятельность, речь и социальное взаимодействие.
Он положил руки на стол и взглянул на Лену:
– Советская психология исходила из принципов марксистско-ленинской материалистической школы. Она рассматривала человека как активного субъекта, который формируется в деятельности, в истории, в коллективе. Здесь не было «бессознательного» Фрейда, архетипов Юнга, нейтрального «мыслящего робота» когнитивной психологии. Всё было связано: речь, мышление, действия, эмоции, общество, культура. Человек развивался через деятельность, через преодоление трудностей, через использование инструментов и социального опыта.
Игорь посмотрел на сына, на торт, на видеокассеты с западными боевиками, аккуратно уложенные на полке. Алексей кивнул на них, словно говоря без слов: всё это – продукты культуры, которые формируют восприятие, мышление и поведение, но не заменяют настоящего развития.
– И главная разница, – продолжил Алексей, – в том, что советская психология учила человека быть творцом, а не объектом внешних воздействий. Она формировала способность анализировать, планировать, преобразовывать мир и себя в нём. Все буржуазные школы – это попытки заглушить активность, предложить готовые схемы, скрипты, мифы о свободе, которая на деле оказывалась иллюзией.
Игорь поднял взгляд:
– Так… получается, мы с сыном, с вами… мы должны учиться думать сами, а не по фильмам или телевизору?
– Именно, – кивнул Алексей. – Через речь, через совместную деятельность, через осмысленные действия человек возвращает себе мышление. Не навязанное, не чужое. Именно это отличало советскую школу – от Фрейда до когнитивной психологии.
Лена тихо улыбнулась, держа сына на руках:
– И мы можем это использовать дома?
– Да, – ответил Алексей. – И с ребёнком, и со взрослыми. Всё, что вы делаете вместе, всё обсуждаете – это практика, развитие мышления, формирование самостоятельного человека, а не пассивного субъекта внешних стимулов.
Он сделал шаг назад, посмотрел на семью: Игоря с тортом, сына с шоколадкой «Марс», Лену с чашкой чая. В этой простой сцене бытового вечера Алексей видел и социальное, и культурное, и психологическое измерение.
– А если кто-то спросит, – тихо добавил он, – почему мы не смотрим на психику как на набор сигналов или бессознательных желаний… просто скажите: «Мы учимся быть творцами своей жизни».
Семья сидела молча, осознавая тяжесть и широту сказанного. Торт, коньяк, вечерний шум за окном – всё казалось мелочью, а на самом деле было частью того, что формировало мышление, сознание и способность действовать.
Алексей улыбнулся, видя, что простая семейная сцена превратилась в наглядный урок советской психологии, контрастирующий с буржуазной.
Глава 10.
Кухня дышала теплом. Лена убирала со стола тарелки, Игорь крутил вилку в руке, сын уже возился с игрушкой под столом. В телевизоре глухо шёл вечерний выпуск – мелькнул Кашпировский, крупным планом, с тем самым взглядом, от которого раньше замирала вся страна.
– Слушай, – сказала Лена, не оборачиваясь, – а ведь я помню, как он по телевизору людей лечил. Мама к экрану ставила воду, говорила, что потом болеть не будет. И правда, будто легче становилось…
Игорь усмехнулся: – Ну да, массовый гипноз. Я тоже помню – соседи сидели перед экраном, как в церкви.
– Не смейся, – сказала Лена, садясь обратно. – У меня подруга недавно ходила к бабке в Переделкино. Та сказала, что с неё сняла «родовое проклятие». И, представляешь, у той потом дела пошли лучше!
Игорь фыркнул: – Может, просто совпадение.
– Может, – Лена пожала плечами. – Но всё равно странно. Как будто что-то работает, хоть и не объяснишь.
Она посмотрела на Алексея, который всё это время молчал, задумчиво крутя бокал.
– Алексей, – сказала она, – вы ведь разбираетесь во всех этих вещах… Что вы про это думаете? Это же не просто внушение? Людей ведь реально лечили, и вода «заряжалась»?
Алексей поставил бокал на стол, тихо кивнул и посмотрел на неё внимательно:
– Хороший вопрос. Но прежде чем отвечать, – сказал он, – позвольте рассказать одну историю…
– Вы знаете, – начал Алексей, – недавно читал статью из «Вопросов философии», 1973 год, «Парапсихология: фикция или реальность». Там прямо сказано, что парапсихология как наука не выдержала проверки. Все эти разговоры про «поля», «биоэнергетику» и «телепатию» – красиво звучит, но фактов нет.
Лена подняла глаза: – То есть даже тогда, в семидесятых, всё это уже разбирали?
– Конечно, – кивнул Алексей. – И серьёзно разбирали. Позже, например, в обзоре Ениколопова С.Н. и Байрамовой Э.Э. «Магическое мышление и вера в магию в структуре психологических защит» объяснялось, что вера в чудо-ритуалы – это просто форма защиты от тревоги. Люди ищут опору, когда не могут контролировать жизнь.
Игорь налил себе в стопку и тихо сказал: – Мы думали, это всё новое. Телевизор, экстрасенсы, «заряженная вода»…
– Нет, – усмехнулся Алексей. – Это старое в новой упаковке. Советская психология давно предупреждала: нельзя заменять мышление готовыми формулами. В «Русской, советской, российской психологии» об этом прямо писали – развитие идёт через деятельность, речь, коллектив, а не через «чудодейственные методики».
Лена отложила вилку: – Тогда зачем люди снова в это верят?
Алексей вздохнул, отпил глоток: – Потому что теряют ориентиры. Вот недавно перечитывал книгу Владимира Лебедева – «Духи в зеркале психологии» (1987). Он там пишет: «В условиях кризиса мистические течения получают новый импульс». Когда человек не знает, куда идти, он хватается за всё, что обещает смысл и покой. Даже если это старое средневековье под видом «новой психологии».
Игорь посмотрел на него внимательно: – Выходит, вера в чудо – это не про силу, а про страх?
– Точно, – сказал Алексей. – Лебедев называет такие вещи «эхом древнего страха». Когда наука ещё не дала ответов, страхи принимали форму духов. А сейчас – форму техник, курсов и «методов самопознания». Внешне – современно, по сути – то же самое.
– Но как отличить одно от другого? – спросила Лена. – Ведь и те, и другие говорят умно…
– Просто, – ответил Алексей. – Спросите: «Где доказательства? Кто проверял? Что подтверждено?» Если вместо ответа – «секрет», «особая энергия» или «нельзя объяснить словами» – всё ясно. Настоящая психология прозрачна. Она не прячется за туман.
Сын вдруг радостно крикнул: «Пап, ещё кусочек!» – и Лена улыбнулась. На секунду напряжение исчезло. Игорь налил всем ещё по чуть-чуть, повернулся к Алексею: – Значит, всё это – не развитие, а просто бизнес на надежде?
– Именно. – Алексей поставил бокал. – Это даже не злой умысел – просто рынок чувств. Лебедев писал: «Мистицизм живёт там, где угасает критическое мышление». И вот это – самое опасное. Потому что без мышления человек становится удобным потребителем иллюзий.
Лена задумчиво провела пальцем по краю тарелки: – А ведь всё это похоже на нас. Устали, тревожимся, ищем простых ответов.
– Это нормально, – мягко сказал Алексей. – Главное – не забывать, что мышление, разговор, сомнение – это и есть настоящий путь. Не ритуал, не формула. А живое совместное понимание. Вот мы сейчас сидим, спорим, ищем смысл – это и есть работа сознания, о которой писали наши психологи.
Игорь кивнул, чуть улыбнулся: – Значит, даже этот вечер – маленький акт науки?
Алексей рассмеялся: – Да. Без приборов, но с головой.
Они чокнулись. За окном звенели рельсы, сын доедал последний кусок торта, а на столе тихо догорала лампа. И хотя всё вокруг оставалось тем же – чай, коньяк, усталость, – каждый чувствовал: что-то изменилось.
Не мир – а взгляд на него.
И, может быть, именно это и было тем самым «самосовершенствованием», о котором не напишут в журналах.
Когда разговор немного стих, Игорь вдруг сказал, лениво потянувшись:
– Пойдём-ка покурим, Лёш. Голова уже кругом от философии.
Они вышли на балкон. Осенний воздух был влажным, от домов тянуло холодом, где-то вдали слышался лай собак. На соседнем балконе висели джинсы, а на верёвке покачивались белые носки. Игорь достал пачку «Явы», протянул сигарету. Алексей взял, закурил, глядя вниз – двор, старые качели, пустая лавочка.
– Слушай, – сказал Игорь, щурясь от дыма, – ты бы костюмчик-то обновил. У тебя всё как в восьмидесятых: пиджак этот серый, воротник широкий… Сейчас так уже не ходят. Джинсы, кожанка, кроссовки – вот что сейчас носят.
Алексей улыбнулся краешком губ, не обидевшись.
– Да я, Игорь, не против джинсов. Только вот ты не задумывался, почему всё это так важно? Костюм, кроссовки, куртка – не просто вещи, а как будто знак, пароль: свой – чужой, современный – старый.
Игорь усмехнулся: – Ну, мода есть мода. Всем хочется выглядеть нормально.
– Вот именно, – Алексей кивнул. – Это и есть проявление того, что Маркс называл товарным фетишизмом. Когда вещь – не просто предмет, а как будто живое существо, обладающее собственной властью над человеком. Мы начинаем верить, что сила, престиж, уверенность – не в нас, а в этих вещах. Что джинсы придадут свободы, а куртка – характера.
Он говорил спокойно, но с нарастающим жаром, будто возвращаясь к лекционной аудитории.
– Товарный фетишизм – это когда отношения между людьми подменяются отношениями между вещами. Человек становится приложением к товару. Не ты носишь одежду, а одежда носит тебя. Вещь становится посредником твоей значимости, как будто без неё ты – никто.
Игорь затушил сигарету об перила.
– Ну, ты скажешь тоже… Мы просто хотим жить получше, не выглядеть как из прошлого века.
– Конечно, – мягко сказал Алексей. – Желание жить лучше – естественно. Но когда вещь становится мерилом человека, начинается вещизм. И он куда опаснее, чем кажется. Потому что подменяет труд, интеллект, доброту, дружбу – внешними символами.
Он выпустил тонкую струйку дыма. – Советская философия называла это «отчуждением». Человек отчуждает собственную сущность, передавая её предметам. Как будто всё, что в нём есть, теперь вне его – в машине, в пиджаке, в квартире.
Игорь посмотрел вниз, на темнеющий двор.
– Да, но ведь всё же это приятно – купить новое, почувствовать себя другим.
– Вот в этом и сила фетиша, – сказал Алексей. – Он обещает преображение, но не даёт его. Ты чувствуешь новизну лишь миг – а потом снова пустоту. Поэтому хочешь ещё. Это не потребность – это зависимость. Капитализм живёт на ней: постоянно подсовывает тебе новые формы старого желания.
Они помолчали. Из окна кухни доносился смех Лены и глухой голос телевизора.
– Знаешь, – сказал Игорь тихо, – может, ты и прав. Я вот недавно взял себе новые джинсы… и всё равно как будто ничего не изменилось.
Алексей усмехнулся.
– Потому что изменить может только то, что в человеке, а не на нём. Вещь – всего лишь оболочка, а не смысл.
Он затушил сигарету, глядя на небо, где за домами мерцали редкие звёзды.
– Просто не позволяй, чтобы вещи начали жить вместо тебя.
Игорь кивнул. Они ещё немного постояли, слушая, как внизу закрываются подъездные двери, потом вернулись в кухню – туда, где пахло коньяком, тортом и теплом домашнего разговора.
Они вернулись в кухню. Воздух внутри был тёплый, пахло тортом и коньяком, лампа под абажуром горела мягко, будто в комнате поселилась тишина. Лена уже собрала тарелки, но, увидев, что мужчины вернулись, вновь села.
– Ну что, – сказала она, улыбаясь, – обсудили там свои философии?
– Да так, покурили, – отмахнулся Игорь, – Лёша, как всегда, лекцию прочёл. На балконе теперь тоже образовалась кафедра.
Все засмеялись. Алексей уселся обратно, поставил стопку, но в глазах его осталась лёгкая задумчивость.
Лена налила немного коньяка и, будто между делом, спросила:
– А ты, Лёша, так и не женился?
Алексей чуть улыбнулся, но улыбка быстро сменилась печальной тенью.
– Нет, – сказал он тихо. – Не успел. Всё работа, институт, студенты, командировки… Всё время думал: потом. А потом оказалось, что это “потом” уже прошло.
Игорь, покачав головой, сказал:
– Эх, брат… Пора бы уже. Возраст-то не студенческий. Надо жениться, пока не поздно.
Лена с улыбкой кивнула:
– Правда. Такой видный мужчина – и без жены! Не порядок.
Игорь, прищурившись, хмыкнул:
– Хотя, может, он правильно делает! Вот посмотри на меня – женился, и всё, философия кончилась! Теперь только мусор вынеси, свет вкрути, полку повесь.
– Очень смешно, – отозвалась Лена, кидая в него салфеткой. – Сам бы без меня пропал.
– Вот, вот, – сказал Игорь, усмехаясь. – Пропал бы, зато свободным остался!
Алексей засмеялся, но взгляд у него всё ещё был мягкий и немного отрешённый.
– Нет, – сказал он спокойно. – Не в этом дело. Была у меня женщина. Мы вместе жили… долго. Она – умная, добрая, красивая. Я думал – навсегда. А потом… – он чуть помолчал, глядя в бокал, – потом она ушла. К другому.
В комнате на мгновение стало тихо. Лена опустила глаза.
– Прости, – тихо сказала она. – Не стоило спрашивать.
Алексей улыбнулся – без тени обиды.
– Ничего. Всё прошло. Просто тогда я понял, что нельзя всё время жить “на потом”. Жизнь не ждёт, пока ты закончишь диссертацию или разберёшься с идеями. Она просто идёт.
Игорь кивнул, глядя на него с уважением.
– Ну, брат… философ ты не только по профессии.
– Да, – сказал Алексей, – философия иногда приходит слишком поздно. Когда уже не о чём спрашивать.
Они выпили молча. Коньяк обжёг горло, за окном гудел ветер, а где-то вдали проехал поздний трамвай.
И только лампа на кухне, тёплая и ровная, будто берегла эту тишину – тишину троих людей, которые вдруг поняли, что каждый из них когда-то что-то потерял, но всё ещё умеет говорить, слушать и быть рядом.
После короткой паузы разговор сам собой перешёл в другое русло. Лена налила остатки коньяка, поправила волосы и, словно желая развеять тягостную ноту, спросила:
– А ты ведь, Алексей, часто говоришь, что семья – это не только чувства, да? А что тогда?
Алексей чуть улыбнулся. Он поставил бокал, наклонился вперёд, словно преподаватель, который вот-вот начнёт объяснять сложную, но захватывающую тему.
– Видите ли, – сказал он, – семья – это не только любовь, быт или привычка. Это историческая форма отношений. Институт, который развивался вместе с обществом. Вот вы думаете, семья – это “всегда было так”, муж, жена, дети, дом. А ведь это далеко не так.
Игорь приподнял бровь:
– А как же? Люди же всегда жили семьями.
– Нет, – ответил Алексей спокойно. – Если смотреть исторически, то “современная семья” – довольно позднее изобретение. Ещё Фридрих Энгельс в своей работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» писал, что первые человеческие объединения не имели ни брака, ни собственности, ни даже понятия “моя жена” или “мой муж”. Было то, что учёные называют групповым браком или промискуитетом – когда отношения строились внутри рода без исключительности.
Лена удивлённо подняла глаза:
– Прямо вот так, без пары?
– Да, – кивнул Алексей. – Это сейчас кажется странным, потому что мы живём в обществе, где семья – ячейка частной собственности. Но когда собственности не было, не было и потребности закреплять наследование. Энгельс опирался на исследования американского этнографа Льюиса Моргана. Тот изучал индейцев и обнаружил, что родство у них считалось не по “крови”, а по линии общины. Детей воспитывало всё племя, а не только биологические родители.