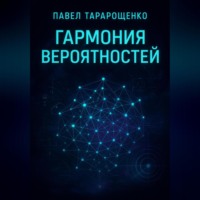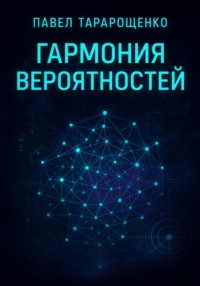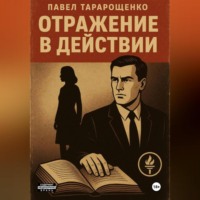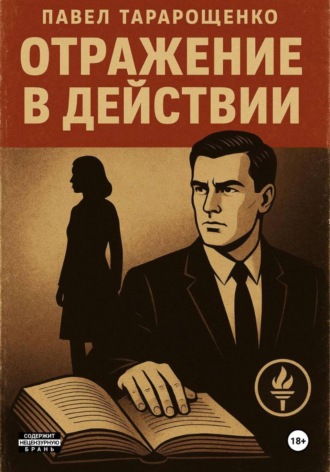
Полная версия
Отражение в действии
Но человек – не животное. Его сила не в когтях, а в способности помогать, учить, строить. И вся наука, всё развитие шло именно против природы, против звериных законов.
Советский проект, при всех его ошибках, был попыткой построить общество, где сильный защищает слабого, а не пожирает его. Вот почему фашисты и ненавидели советскую идею: она разрушала их миф о “естественном неравенстве”.
Он замолчал, задумчиво постучал пальцами по кружке:
– Когда общество перестаёт верить в солидарность, начинается обратная эволюция. Не прогресс, а регресс. Люди снова становятся стаей. Только стаей с дипломами. Вот в этом и есть трагедия нашего времени.
Игорь вздохнул.
– Слушай, ты когда так говоришь… будто всё это уже не про прошлое, а про нас сейчас.
– Так оно и есть, – ответил Алексей. – Неонацизм – не музейный экспонат. Это зеркало, в котором отражается весь наш век. Просто кто-то видит там свастику, а кто-то – биржу. Но суть у них одна.
Алексей замолчал, будто собираясь с мыслями, потом сказал уже тише, глядя в окно:
– Мало родиться человеком, Игорь. Как говорили – человеком ещё надо стать.
Вот в этом, пожалуй, всё различие между советским пониманием человека и тем, что навязывают сейчас.
Советская наука исходила из того, что человек – не просто биологический вид, а социальное существо, способное выходить за пределы своих инстинктов.
Он потянулся к стопке книг, достал тонкую брошюру с жёлтой обложкой:
– Вот Гальперин писал… «Ни одно животное, кроме человека, не может стать человеком. А человек может стать членом любого общества и, в пределах своих возможностей, любым животным – и даже хуже всякого животного. В этой свободе становления и состоит биологическая особенность вида “человек”.»
Он закрыл книгу и добавил:
– Понимаешь, в этом и есть ужас и сила человека. Он может стать кем угодно. Может создать культуру, науку, сострадание – а может превратиться в зверя с флагом и лозунгом.
Не природа делает нас людьми, а труд, воспитание, сознание. Это понимали наши учёные – и философы, и психологи. Вся советская педагогика была построена на мысли, что человека нужно формировать. А сейчас нам внушают обратное – будто всё в тебе уже есть, просто “будь собой”, “слушай инстинкты”, “борись за место под солнцем”.
Это и есть возврат к звериному.
Он говорил спокойно, но в голосе звучала усталость, почти горечь:
– Мы снова подменили развитие самосознания борьбой за выживание.
А ведь Гальперин предупреждал: человек может стать хуже животного.
Животное убивает, чтобы выжить. А человек – чтобы доказать, что он “сильнее”.
Это уже не биология, а идеология, разрушающая саму идею человечности.
Игорь молчал, уткнувшись взглядом в пол.
– Значит, – сказал он наконец, – всё то, что они называют “естественным порядком”, – просто оправдание деградации?
Алексей кивнул:
– Да. Это не закон природы – это капитуляция духа.
Потому что быть человеком – значит не подчиняться инстинктам, а преодолевать их.
Вот в этом и был смысл всего советского гуманизма – не оставить человека один на один с его животным началом, а помочь ему стать самим собой.
Он снова взглянул на Гальперина, провёл пальцем по строке.
– А теперь посмотри вокруг. На улицах, в новостях – везде торжество этой новой зоологии. “Сильный ест слабого”, “каждый сам за себя”. И ведь верят, будто так и должно быть.
Но в действительности – это шаг назад.
Назад от человека к биологическому виду. От общества – к стае. От духа – к рефлексу.
Игорь усмехнулся, потянулся за сигаретой:
– Ладно тебе, Алексей. Красиво говоришь, философски. Но всё равно человек – зверь. Инстинкты, борьба, кто сильнее, тот и живёт.
Да что уж там, я сам вижу – бизнес, базары, люди друг друга жрут. Всё по Дарвину, всё как есть.
Он щёлкнул зажигалкой, втянул дым и добавил:
– А вы, коммунисты, хотели природу переделать. “Воспитать нового человека”… Ну и где он, этот новый человек? Одни хапуги и проходимцы остались.
Алексей посмотрел спокойно, с лёгкой усталостью, как на ученика, повторяющего избитую ошибку:
– Ты говоришь – “всё по Дарвину”, – начал он тихо. – Только Дарвин писал о биологическом отборе, а не о человеке как о существе сознательном.
Социал-дарвинизм – это искажение его идей, примитивизация.
В науке давно доказано, что в человеке нет “инстинктов” в животном смысле.
Есть потребности, мотивы, установки, сознание, но не врождённые поведенческие схемы, как у зверей.
Психологи вроде Гальперина, Леонтьева, Рубинштейна это разобрали до косточки ещё в середине прошлого века.
Он подался вперёд, глядя прямо:
– Инстинкт – это когда птица строит гнездо, не задумываясь.
А человек строит дом – и думает, зачем, как, из чего, для кого.
У него есть замысел, цель, смысл.
Как только появляется сознание – инстинкт исчезает как форма поведения.
Остаётся свобода, и вместе с ней – ответственность.
Игорь хмыкнул:
– Ну, а вы из этого сделали культ. Наука, идеология, партия – всё учили, как “правильно жить”. Вышло-то что?
Алексей чуть усмехнулся уголком губ:
– Да, ошибок было много.
Но ты путаешь пропаганду и научный подход.
В пропаганде человека “лепили” под лозунг.
А наука – пыталась понять, как человек формируется.
Гальперин, Выготский, Лурия – все они занимались тем, как превращается биологическое существо в личность, как рождается мышление, речь, воля.
Он сделал паузу, словно выстраивая мысль:
– Советская психология не отрицала природу.
Она просто говорила: природа – это материал, а человек – это форма, которую этот материал принимает в обществе.
Мы рождаемся с телом, но человеческим нас делает культура.
Вот в этом и разница: зверь живёт по реакции, человек – по смыслу.
Игорь молчал, втягивая дым, потом усмехнулся:
– Ну не знаю… может, ты и прав. Только смыслом сыт не будешь. Людям сейчас не до духа – выжить бы.
Алексей ответил почти шёпотом, глядя на окно, где отражались городские огни:
– А ведь именно поэтому всё и рушится.
Потому что мы забыли, что смысл – это тоже хлеб.
Без него человек превращается в животное, которое просто ест и спит.
А ведь именно труд и сознание делают нас людьми, не деньги и не сила.
Он замолчал. В комнате стало тихо, только часы на стене тикали с равномерным спокойствием.
Игорь докурил сигарету, придавил окурок к пепельнице и хмыкнул:
– Ладно, философ, уговорил. Пусть человек – не зверь. Но всё равно жить как-то надо.
Он потянулся, щёлкнул шеей и добавил уже мягче:
– Слушай, а ты ведь всё один, да? Дом – работа, работа – дом. Не по-человечески это, Алексей.
Алексей чуть усмехнулся:
– Привычка. После развала института как-то не до семейных визитов.
– Вот именно, – перебил Игорь. – Так и зарастёшь пылью со своими книгами и умными мыслями.
Он поднялся, потянулся за курткой. – Завтра вечером заезжай ко мне. Лена тебя давно хочет увидеть, говорит, что я всё про “этого вашего Алексея” рассказываю, а сама даже чаю не наливала.
Алексей поднял бровь:
– Лена не поймёт отказа, да?
– Вот именно, – ухмыльнулся Игорь. – Она у меня такая – если сказала “придёт”, значит придёшь. Сын тоже обрадуется, у него сейчас как раз стадия “почему?”. Будешь ему лекцию про человеков читать, а я – картошку жарить.
Алексей на секунду задумался, глядя на горку бумаг на столе. Потом кивнул, чуть устало, но с теплотой:
– Ладно. Давно не пил домашний чай без повесток и протоколов.
Игорь довольно хлопнул его по плечу:
– Вот и договорились. А то всё философия да идеология – а жизнь, она вон там, на кухне. Между кастрюлей и детским смехом.
Алексей улыбнулся впервые за вечер, без тени иронии:
– Может, ты и прав, Игорь. Иногда именно там и живёт человек, о котором мы говорили.
Глава 7
Телефон зазвонил уже поздно, когда Алексей собирался выключить настольную лампу. Звон был резкий, неуместный в этой тишине – будто сама реальность требовала вернуться к делу.
– Алексей Викторович, – голос дежурного звучал сухо, – из морга передали фотографии. Жертву подготовили к опознанию. Если сможете, загляните завтра утром. Начальник просил, чтобы вы первым посмотрели.
– Понял, – коротко ответил Алексей, и, положив трубку, долго сидел неподвижно.
На столе – раскрытый блокнот, где последние строки касались Черепа и «Красного шара». Рядом – огрызок карандаша, тлеющий фильтр в пепельнице и полумрак, в котором мысли вязли, как в густом дыму.
Он знал: завтра ему придётся взглянуть в лицо не идее, не мифу – а самой смерти, чужой, но слишком человеческой.
Глава X. Морг
Утро было серым, как будто само не решалось наступить. Город ещё не проснулся, только редкие автобусы вздрагивали на поворотах, да собаки бесцельно бродили между гаражей. Алексей шёл медленно, будто тянул за собой собственную усталость.
Морг стоял в глубине двора старой больницы – облупленный, холодный, с тяжёлой металлической дверью. У входа пахло карболкой и старым железом. Ветер перекатывал по асфальту засохшие листья.
Дежурный санитар встретил его кивком:
– Вас ждут, Алексей Викторович. Фото уже у Трофимова, он в смотровой.
Алексей прошёл по узкому коридору, где стены были выкрашены в тусклый зеленоватый цвет, и каждый шаг отдавался гулом. Где-то за перегородкой хлопнула крышка холодильной камеры – звук, от которого невольно сводило плечи.
Трофимов сидел за столом, перебирая снимки. Лицо у него было усталое, будто он не спал всю ночь. Увидев Алексея, он поднял глаза:
– Вот, посмотри. Сделали чисто. Следы сняли, одежду сфотографировали.
Он разложил фото веером: Марина. Та самая девушка, которую теперь называли «жертвой». На одном снимке – лицо, спокойное, как будто уснувшее; на другом – руки, тонкие, с обломанным ногтем; на третьем – шея, с тенью от странного следа, будто верёвка или ремень.
Алексей молчал. Взгляд у него был тяжёлый, неподвижный, будто он всматривался не в мёртвое тело, а в то, что привело к смерти – в цепочку причин, в базис, в те невидимые нити, что соединяют личное и общественное.
– Странная штука, – сказал наконец Трофимов, нарушая тишину. – Молодая, красивая. Ни семьи, ни друзей не осталось. Только грязь вокруг. Как будто жизнь сама её вычеркнула.
Алексей тихо выдохнул:
– Жизнь никого не вычёркивает. Людей вычёркивают обстоятельства. А обстоятельства создаются людьми.
Он аккуратно взял одно из фото – то, где лицо было ещё живым, – и долго смотрел.
– Ты думаешь, это Череп? – спросил Трофимов.
– Сказать по правде не знаю. Думаю, да, – ответил Алексей. – Но не из личной мести. Слишком холодно всё сделано. Это не вспышка. Это порядок. Значит, кто-то его направил.
Он сложил фотографии обратно в папку, и добавил уже тише:
– И всё равно… каждый раз, когда смотришь на такие лица, кажется, будто смотришь не на смерть, а на провал цивилизации.
Алексей вышел из морга, будто из другой эпохи. Воздух снаружи показался сперва слишком живым – сырым, холодным, пахнущим гнилью листвы и бензином. Он закурил, но не ради удовольствия – просто чтобы ощутить, что ещё дышит.
Огни редких машин отражались в лужах. По соседству, за забором больницы, кто-то ругался пьяным голосом. Алексей стоял неподвижно, глядя, как дым поднимается и тает в сером небе.
– Каждый век, – подумал он, – рождает свои трупы.
Одни – на фронтах, другие – в тихих подворотнях.
Но причина всегда одна и та же: мир, в котором человек становится средством, а не целью.
Он вспомнил лицо Марины. Таких он видел десятки. Разные глаза, разный возраст, но одинаковая закономерность: кто-то вычеркнут системой, кто-то заменён, кто-то просто никому не нужен.
– Эпоха порождает не только героев, – продолжал он мысленно, – она порождает и тех, кто несёт в себе её разложение.
Когда рушится идея, рушится и человек.
Сначала идеалы, потом привычки, потом душа.
И вот – новый вид: человек эпохи без веры, без общности, без смысла.
Он втянул дым и посмотрел на пачку – дешёвые сигареты, как и всё в этой жизни, что стало заменой настоящего.
– Теперь говорят, всё просто: выживи, урви, обмани.
Но ведь именно так и появляются насильники.
Не потому что они звери по природе, а потому что эпоха учит – сильный прав, слабый виноват.
Те же законы, что в экономике, только применённые к душе.
Сзади хлопнула дверь морга, санитар выкатил каталку с новым телом. Алексей не стал оборачиваться – просто посмотрел на сигарету, дотлевшую почти до фильтра, и выкинул её в лужу.
– Каждое время создаёт свою анатомию насилия.
Сначала – идеологию, потом – механизм, потом – человека, который готов нажать на курок.
А потом удивляется, откуда столько крови.
Он сел в машину, включил фары. Свет выхватил из тумана ветхий забор и облупленные буквы старой таблички: «Патологоанатомическое отделение».
– Да, – подумал он, – общество тоже патологоанатом. Только оно вскрывает само себя.
Он завёл двигатель. Фары прорезали серый воздух, и город медленно втянул его обратно – как организм, переваривающий собственные отходы.
Он ехал медленно, не включая радио. Город растворялся за стеклом в грязно-жёлтом свете фонарей – без лица, без выражения, как мертвец, которому забыли закрыть глаза.
– Отчуждение, – подумал Алексей. – Это, наверное, и есть главная болезнь времени.
Когда человек больше не видит себя в том, что делает.
Когда труд, мысли, даже чувства – всё отдано наружу, всё живёт отдельно, без хозяина.
Он вспомнил Маркса, потом – лекции старого профессора философии в университете. Тот тогда сказал: «Отчуждение – это когда ты уже не чувствуешь боли, причинённой другому, потому что между вами стоит система, бумага, приказ или кнопка».
– Тогда я не до конца понял, – подумал Алексей. – А теперь вижу это каждый день.
Чиновник, подписывающий фиктивное заключение.
Полицейский, который оформляет протокол не глядя.
Продавец, обвешивающий старуху.
Солдат, нажимающий кнопку.
Все делают «своё дело», и никто не чувствует вины.
Машина свернула на набережную. Река была чёрной, как нефть, и двигалась медленно, будто тянула за собой все человеческие остатки.
– Человек перестаёт быть субъектом. Он – функция. Элемент схемы.
Ему даже не нужно быть злым. Достаточно быть равнодушным.
Равнодушие – идеальное топливо для системы.
Он вспомнил прочитанное когда-то – эксперименты Милгрэма. Люди, готовые подавать ток другим по приказу учёного, лишь потому что «так надо».
И Зимбардо, где студенты превращались в палачей, стоит им только выдать форму и инструкции.
– Они ведь тоже не были монстрами, – подумал Алексей. – Просто делали, как сказали.
Так и строятся лагеря, войны, тюрьмы. Не злодеями, а равнодушными исполнителями.
Каждый отчуждён от своей совести и от другого человека, как от чужого предмета.
Он остановился у перекрёстка, посмотрел на лица прохожих. Все спешили, без взгляда, без цели – просто двигались.
– Вот она, фабрика отчуждения, – подумал он. – Никто не знает, зачем живёт, но все выполняют инструкции.
Кто-то крутит гайки, кто-то считает отчёты, кто-то снимает видео, кто-то убивает.
И все одинаково уверены, что «так надо».
Он вздохнул.
– А потом удивляются – откуда столько насилия, если никто не хочет быть виноватым.
Но ведь никто и не хочет быть человеком.
Потому что человек – это всегда ответственность. А она страшнее любого преступления.
Алексей выключил фары и на минуту остался в темноте. Только гул двигателя и редкие капли дождя по стеклу.
– Вот и получается, – подумал он, – что эпоха отчуждения сама выращивает преступников.
Они не рождаются с ненавистью, её в них формирует мир, где чувства и совесть больше не имеют применения.
Где человек – лишь винтик, и винтик не виноват, если вся машина создана, чтобы давить.
Он включил фары и тихо произнёс:
– А потом эти винтики удивляются, почему вокруг так много крови.
Машина тронулась, исчезая в потоке.
Алексей ехал медленно, руки на руле, взгляд скользил по мокрому асфальту. В памяти всплывали фотографии Марины – лицо спокойное, почти сонное, руки бледные, шея с темной тенью от ремня. Вся она казалась высосанной из жизни, лишённой силы, цвета, тепла.
– Обескровленная, – подумал он. – Не только телом. Душой, смыслом, временем…
И тут в сознании всплыло сравнение, которое давно затаилось где-то между философией и экономикой: Маркс и его «капитал как вампир». Капитал живёт, только когда пьёт кровь. Человек в таком мире превращается в источник энергии, в расходный материал, который система использует и оставляет пустым. Марина стала символом этого вампира: каждый её жест, каждый вдох уже был чужой собственностью, каждое мгновение жизни – инструментом в чьих-то руках.
Он вспомнил о том, как Маркс писал о накоплении и эксплуатации, о том, что для капитала индивидуальность – лишь цифра, ресурс, «сырьё». И вот перед ним лежала жертва, воплощение этих слов. Она была не просто уничтожена – её существование полностью подчинили чужой цели, высосали всё человеческое, оставив холодный, безмолвный образ.
– В этом нет случайности, – продолжал он мысленно. – Нет злого умысла одного человека. Есть система, которая способна превращать жизнь в кровь, а людей – в источник. И никто даже не задумывается, пока остаётся сухая, бледная оболочка.
Алексей вздохнул, провёл пальцем по рулю и подумал, что история Марины – это урок для всех, кто закрывает глаза на то, как структурные механизмы питаются человеческой жизнью. Она стала символом того, что «капитал-вампир» и власть, лишённая морали, обескровливают не только тело, но и душу.
Свет фонаря выхватывал из тумана оголённые трубы старых заводов, и в этом свете Алексей увидел продолжение этой цепи: живые люди, обескровленные системами, жертвующие собой, даже не понимая, что они – ресурс. Он курнул, дым закружился в салоне машины, и мысль сама собой завершила путь: в этом мире кровь течёт тихо, незаметно, но именно она – топливо для машин, которые называют цивилизацией.
Глава 8
Утро в квартире Игоря начиналось с привычного шума: в кухне закипала вода в чайнике, где-то в углу пищал будильник на старом радиоприёмнике. Лена перекладывала бельё из корзины в шкаф, а их маленький сын бегал вокруг стола, смеясь и хватая кружку с молоком.
Игорь, ещё в халате, прошёл к окну. Серое утреннее солнце едва пробивалось сквозь городские дома, отражаясь на облупленных стенах соседнего дома. Он заварил себе крепкий чай, посмотрел на сына и Лену и тихо улыбнулся.
– Мама, смотри, я сам! – закричал малыш, пытаясь надеть пижаму задом наперёд. Лена мягко рассмеялась и помогла ему, одновременно подставляя стул, чтобы сын мог достать до раковины.
На старом телевизоре на кухне стояла кассетная приставка, рядом с ней – несколько видеокассет с мультфильмами и фильмами. Малыш, заметив одну из них, радостно потянулся к Лене:
– Поставим мультик?
Лена кивнула, вставила кассету в приставку, и звуки знакомого детского голоса заполнили комнату. Игорь перевёл взгляд на газету, разложенную на столе, и тихо улыбнулся: первые дни новой недели, а у них ещё есть это утро, пока город постепенно пробуждается.
Сквозь окно доносились редкие гудки машин, где-то вдали визжал трамвай. Но в квартире было спокойно: смех ребёнка, тепло чашки с чаем, тихий звук мультфильма. Здесь, в этом небольшом уголке середины 90-х, жизнь продолжалась сама по себе – простая, обычная, но настоящая.
В это тихое утро раздался стук в дверь. Игорь поднялся, отложил газету, а Лена посмотрела на него с любопытством:
– Кто там так рано? – спросила она.
Игорь открыл дверь и увидел соседа с площадки – высокий мужчина в дорогом пальто, с блеском в глазах, явно из тех «новых русских», которые успели обзавестись всем, что только появлялось на рынке. В руках он держал громоздкую видеокамеру на штативе.
– Игорь! – заговорил сосед торжественно. – Смотри, что я раздобыл! Первая видеокамера для дома! Можно всё снимать: улицу, подъезд, детей, даже телевизор! Представляешь, как круто?
Игорь прищурился, недоверчиво оглядывая громоздкий аппарат.
– Это… реально работает? – спросил он, пытаясь скрыть интерес.
– Да как! – сосед выставил камеру на стол, начал возиться с проводами и кнопками. – Смотри: здесь объектив, здесь кассета вставляется, а вот эта кнопка – запись! Можешь снимать всё, что хочешь. Я даже улицу на видео записывал – смотри, как снег падает!
Маленький сын уже подпрыгивал рядом:
– Папа, папа, давай посмотрим!
Игорь улыбнулся, прислонился к дверному косяку и наблюдал, как сосед восхищался своей покупкой, показывал, как крутить объектив и как включать запись.
– Вот это да… – пробормотал Игорь. – Такое раньше и не снилось.
Лена тихо усмехнулась:
– Главное, чтобы вы не забыли, что это техника для семьи, а не для уличных шпионских штучек.
Сосед фыркнул:
– Да какая разница, Лена! Главное – что теперь можно фиксировать жизнь! Это ж будущее, Игорь, будущее!
Игорь посмотрел на сына, который уже пытался нажимать на кнопки камеры. Усмехнувшись, он тихо сказал себе:
– Ну что ж, будущее пришло прямо к нам на кухню…
Сосед продолжал размахивать камерой, Лена налила чай, сын уселся на стул, а Игорь подумал, что, несмотря на всю тяжесть и жестокость внешнего мира, здесь, в этом простом утре середины 90-х, ещё есть место для маленькой радости и детских улыбок.
Игорь осторожно взял видеокамеру в руки, ещё не совсем веря, что она действительно работает. Сосед радостно подбежал, подправляя штатив:
– Давай, Игорь, смотри, всё просто! Наводишь, нажимаешь «запись», и жизнь уже фиксируется.
Маленький сын, всё ещё в пижаме, подпрыгивал рядом, пытаясь разглядеть кнопки. Лена присела на край стола, наблюдая с мягкой улыбкой, как муж и сосед возятся с громоздкой техникой.
Игорь включил камеру и направил её на сына. Красный индикатор зажёгся, лёгкий шум мотора – и вот уже на экране телевизора в углу кухни мелькали движущиеся фигуры.
– Смотри, вот твой первый мультфильм, – подмигнул Игорь сыну.
Сосед расправил плечи, гордясь собой:
– Вау! А помнишь, раньше только на свадьбах такое видели, и то дорого стоило. А сейчас можно снимать всё, что хочешь! Смотришь потом – и как будто вчера всё происходило.
Игорь усмехнулся:
– Да уж… люди реагируют на такие штуки как на чудо. Всё новое – сразу магия, пока не поймёшь, как оно работает.
Сын начал прыгать перед камерой, делая смешные движения, а Игорь решил показать соседу, что камера способна фиксировать и голос:
– Давай, говори что-нибудь, а камера запишет.
Сосед, гордо выпрямляясь, сказал:
– Я новейший русский, у меня есть будущее прямо в руках!
Игорь тихо посмеялся:
– Будущее… ну да, пока ещё кухня, сын, чай и кашка. Но через пару минут оно может быть где угодно.
Лена подала чашку Игорю:
– Главное, чтобы вы эту «магическую штуку» использовали по-людски.
– Не волнуйся, Лена, – ответил Игорь, – сначала изучаем домашнюю хронику.
Игорь наблюдал, как смех сына, движения Лены и соседские восторги фиксируются на пленке – впервые у них появлялась возможность сохранить мгновение, которое раньше мгновенно растворялось в повседневности.
– Знаешь, – сказал сосед, – такое ощущение, что теперь мы сами творцы истории.
Игорь, посмотрев на сына, тихо подумал:
– А история… она будет только тогда, когда кто-то запишет её, а кто-то помнит. И пока это просто кухня, чай и смех – маленькая хроника нашей жизни.
Сосед пригнулся, оглядываясь по сторонам, словно опасаясь, что кто-то их услышит.
– Слушай, Игорь… – тихо начал он, – есть кое-что, что может тебя заинтересовать. Далеко не каждому показываю.
Он протянул Игорю кассету, стараясь, чтобы Лена не заметила.
– Что это? – спросил Игорь, слегка нахмурившись.