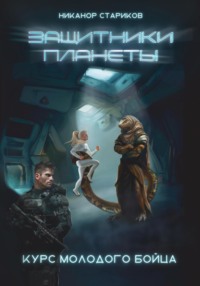Полная версия
Мехвод

Никанор Стариков
Мехвод
Глава 1
Он вошел в аудиторию беззвучно, как входят те, чья тяжесть сосредоточена не в теле, а в духе. Студенты, будущие стратеги Великой Державы, замирали, едва заслышав мерный, сухой стук его протезов о полированный камень пола. Он не хромал – он шествовал, и его походка была подобна движению древнего, исполинского механизма, неспешного и неумолимого. Александр Владимирович Колесников. Профессор Академии Генерального Штаба. Для них он был живой легендой, «Мехводом». Они произносили это слово с придыханием, как некогда произносили «витязь» или «богатырь». А начиналось всё в далёкие, уже почти мифические годы начала века, в эпоху, которую историки называют «Предрассветьем». Рос он в Сибири, на берегу могучего Енисея, где природа с детства учила человека суровой ясности и молчаливой стойкости. Мальчишка с глазами цвета сибирского неба и тихим, вдумчивым нравом. Он не гонял мяч с остальными, а мог часами наблюдать, как гигантские механизмы порта разгружают баржи, внемля их ритму, пытаясь постичь душу стали и мотора. Школу окончил с отличием по физике и математике, но вместо столичного института выбрал суровую дорогу – путь офицера. Военное училище он прошёл не как блестящий курсант-фрондер, а как упорный, въедливый труженик войны. Его стихией были не парады, а тактические карты и голые, лишённые пафоса схемы боевого применения техники. Он чувствовал машину как живое, мыслящее существо, видя в ней не просто оружие, а продолжение воли командира, его железную длань. Война 2030 года застала его молодым лейтенантом. Это была первая великая битва за передел ресурсов тающей Арктики, конфликт, где сталь и электроника решали судьбы континентов. Колесников прошёл её в башне новейшего танка «Армата-М». Он не воевал – он управлял. Его машина была не просто единицей в строю; она была хищником, чьи манёвры поражали точностью, а удары – неотвратимостью. Экипаж боготворил своего мехвода, читая в его спокойных, холодных глазах саму суть боя. Но звёздный час, тот, что навсегда вписал его имя в скрижали славы, наступил восемью годами позже, в 2038-м, во время подавления мятежа в Карпатском Укрепрайоне. Это была не война, а адская мясорубка среди скал и ущелий, где каждый метр пространства простреливался. Батальон Колесникова попал в засаду, в огневой мешок. Одна за другой гаснули машины, превращаясь в груды оплавленного металла. И тогда в наступившей тишине, нарушаемой лишь треском горящей брони, прозвучал его голос, спокойный и металлический: ««Волки», за мной. Мехвод ведёт».
То, что произошло далее, курсанты изучали на тактике как образец запредельной воли и мастерства. Его танк, изрешечённый, дымящийся, двинулся не назад, к отступлению, а вперёд, в самую гущу огня. Он не ехал – он фехтовал. Корпусом он прикрывал подбитые машины, стволом его орудия выбивал огневые точки, гусеницами давил расчёты противотанковых комплексов. Он шёл по краю пропасти, предугадывая каждый выстрел противника, каждую траекторию. В этом аду он был не человеком, а мозгом гигантского стального тела, его нервной системой, его яростным сердцем. Спасая последний экипаж, его «Армата» наехала на кассетный фугас. Взрыв чудовищной силы оторвал башню и перебил стальные кости машины. Когда санитары извлекли его из-под обломков, они не верили, что в этом искалеченном теле ещё теплится жизнь. Ног ниже колен не было. Очнувшись в госпитале, он не спросил о ногах. Его первый вопрос был: «Экипаж?» Узнав, что все живы, он кивнул и закрыл глаза, погрузившись в свои мысли.
Инвалидность для такого человека не могла быть концом. Это была лишь смена формы служения. Его ум, закалённый в горниле войны, его стратегическое видение, купленное ценой собственной крови, были слишком ценны для Родины. Академия Генштаба стала его новым командным пунктом. И вот он стоял перед молодыми, пытливыми умами, опираясь на трость из чёрного, отполированного титана – того же металла, что и корпус его последнего танка.
– Тактика, – голос его был тих, но заполнял собой всё пространство, – это не наука о уничтожении. Это высшая математика воли. Вы должны видеть не карту, а поток – поток сил, времени, решений. Ваша машина, ваш батальон, ваша армия – это продолжение вашей мысли. Помните: любая, даже самая совершенная техника, лишь инструмент. Ржавеет сталь, устаревают процессоры. Не ржавеет только дух. Не устаревает только воля.
Он поворачивался к голографической карте, и его протезы, эти сложные механизмы, издавали тихий, хорошо смазанный щелчок. Студенты ловили себя на мысли, что звук этот поразительно похож на звук затвора боевого люка, закрывающегося перед решающей атакой. И в его холодных, ясных глазах, обращённых к картам грядущих сражений, можно было разглядеть отсвет далёкого карпатского пламени – пламени, в котором родился не просто герой, но Учитель, чьи уроки были выкованы в стали и оплачены кровью. «Мехвод» вёл их уже не к победе в одном бою, но к пониманию самой сути войны и мира, которые, как он знал, были двумя сторонами одной, великой и трагической, человеческой истории. Тишина, воцарившаяся после его слов, была особого свойства – не пустота, а насыщенная, плотная субстанция, в которой кристаллизовалась мысль. Молодые умы, отшлифованные строгими науками и историческими примерами, впервые соприкоснулись не с теорией, а с её огненным синтезом, воплощённым в человеке.
Александр Владимирович неподвижно стоял у голографического проектора, его лицо, испещрённое сетью морщин – картой былых сражений, – оставалось невозмутимым. Он видел, как в глазах самых способных курсантов вспыхивали и гасли искры понимания, подобно звёздам в турбулентной атмосфере далёкой планеты. Они улавливали не просто смысл фраз, но и тот пласт реальности, что скрывался за ними – пласт боли, стали и нечеловеческого напряжения воли.
– Вам, воспитанным в эпоху Тактических Сетей и Когнитивных Глобусов, – его голос приобрёл новые, глубинные обертона, – сложно постичь механическую душу. Вы мыслите категориями потоков данных, квантовых вычислений, психоисторических матриц. Но война, в своей первозданной сути, остаётся столкновением воль, воплощённых в материи.
Он сделал шаг вперёд, и снова раздался тот самый, щелкающий звук.
– Машина, которой я управлял, не была просто совокупностью броневых листов, двигателя и вооружения. Она была моим вторым телом, более мощным и в то же время более уязвимым. Связь мехвода с боевой машиной в высшем её проявлении – это не управление, а симбиоз. Нервные окончания прорастают в кабельные магистрали, мышцы сливаются с гидравликой, а сознание расширяется, чтобы охватить каждый датчик, каждый сенсор. Вы перестаёте чувствовать границы своего биологического «я». Вы становитесь стальным исполином, чьё сердце бьётся в такт дизелю, а глаза видят в инфракрасном и ультрафиолетовом спектрах.
В воздухе аудитории замерцала трёхмерная проекция – не современная абстракция, а архивная запись с бортового регистратора танка Т-90М, датированная 2030 годом. Зыбкие, зернистые кадры арктической тундры, проносящиеся сквозь метель силуэты вражеских машин.
– Обратите внимание на манёвр, – голос Колесникова был ровен, как линия горизонта на прицеле. – Здесь, на отметке тридцать семь секунд. Логика тактического компьютера предлагала отход под прикрытие ледяной гряды. Но машина – не человек. Она не чувствует течения боя, его пульсации. Она не предчувствует. Я видел не данные на экране, а замысел противника. Я видел его намерение. И принял решение двигаться вперёд, в зону, обозначенную как максимально опасная. Это был не расчёт, а озарение, рождённое в симбиозе. Мы прошли, а их фланговая атака захлебнулась в пустоте.
Кадры сменились. Теперь это была запись с внешней камеры «Арматы» в Карпатском Ущелье. Дрожащий мир, залитый багровым светом пожаров, разрывы снарядов, падающие с скал обломки.
– А здесь, – продолжил Колесников, и в его голосе впервые прозвучала тонкая, стальная нота, – мы подошли к пределу. Пределу машины. Пределу человека. Логика отказывала. Данные были хаосом. Оставалась только воля. Воля, направленная на спасение своих. В тот момент я не был ни человеком, ни машиной. Я был функцией. Функцией спасения. И когда сталь не выдержала, когда взрыв разорвал наши общие тела… функция была выполнена.
Проекция погасла. В аудитории снова была лишь суровая реальность и человек с глазами, видевшими то, что не дано видеть другим.
– Вы спросите, какое отношение это имеет к стратегии будущего, к войне Сетей и Полей? Самое прямое. Искусственный Интеллект, сколь бы совершенен он ни был, оперирует вероятностями. Но война – это царство невозможного, которое становится возможным лишь благодаря человеческому духу. Ваша задача, как будущих полководцев, – не раствориться в потоках информации, а сохранить в себе этот стержень, эту способность к озарению, к прорыву за грань логики. Вы должны стать не операторами, а воплощённой волей Великой Державы.
Он обвёл взглядом аудиторию, и его взгляд, холодный и ясный, на мгновение остановился на моем лице, одного из курсантов – юноши с не по-юношески серьёзным лицом и горящими глазами слушая легенду.
– Следующую лекцию мы посвятим анализу психофизиологических аспектов принятия решений в условиях информационного коллапса. До свидания и все свободны.
Он развернулся и тем же неспешным, неумолимым шагом направился к выходу. Стук титана о камень отдавался в тишине, как удары метронома, отсчитывающего время до будущих битв.
Курсант, на котором остановился взгляд профессора, по имени Дмитрий Воронов, был я. Я не двигался, глядя в пустое пространство, где секунду назад висела голограмма. Я чувствовал, как в моем сознании перестраиваются сами основы миропонимания. Я видел не инвалида, опирающегося на трость, а исполинскую фигуру «Мехвода», ведущего нас, новое поколение, через туманности грядущих войн к ясному, холодному свету Победы. И этот свет уже не казался мне просто абстракцией. Он был тяжёл, как броня, и реален, как сталь.
Когда аудитория опустела, я ещё долго сидел, ощущая странную раздвоенность. Часть моего сознания, вышколенная годами учёбы, автоматически фиксировала ключевые тезисы лекции: «симбиоз человека и машины», «воля как стратегический ресурс», «преодоление логического горизонта». Но другая, более глубинная часть, была потрясена до самого основания. Слова Колесникова не просто несли информацию – они меняли саму оптику восприятия, как меняет её первый взгляд из космоса на Землю.
Я, Дмитрий Воронов, двадцати трёх лет от роду, курсант Академии Генерального Штаба, всегда считал, что понимаю природу войны. Моё детство и отрочество прошли в атмосфере, где понятия долга, стратегии и истории не были абстракциями.
Я родился в Севастополе, городе, чьи камни помнят и дым сражений, и торжество побед. Море и крепость – вот два полюса моего раннего мира. Отец, Владимир Сергеевич Воронов, был капитаном 1-го ранга, командиром атомной подводной лодки. Высокий, сухопарый, с молчаливым, испытующим взглядом серых глаз, он был для меня воплощением невозмутимой силы. Его мир был миром тишины на глубине, миром хладнокровных расчётов и невероятного давления, выдерживать которое могли лишь избранные. Он редко бывал дома, но его возвращения были подобны явлению некоего титана из глубин, несущего с собой запах моря, машинного масла и той особой, железной дисциплины, что была его второй натурой.
Мать, Анна Михайловна, была историком, специалистом по античным цивилизациям. Хрупкая, с тонкими чертами лица и тёплым, задумчивым взглядом, она казалась полной противоположностью отцу. Её сила была в тишине архивов, в мудрости тысячелетий, запечатлённой на пергаменте и в камне. По вечерам она рассказывала мне не сказки, а истории о фалангах Александра, о легионах Цезаря, о стратегии и тактике, о том, как воля одного человека может изменить течение времени. От неё я унаследовал любовь к истории и понимание, что любая современная битва – это лишь эхо битв давно минувших. Мои школьные годы прошли в изучении математики, физики, истории. Я не был вундеркиндом, но обладал упорством, доставшимся мне, вероятно, от отца, и способностью видеть систему, унаследованной от матери. Я видел, как логика Архимеда переплетается с логикой военной операции, как принципы Леонардо да Винчи находят своё воплощение в схемах современных боевых машин. Поступление в Академию было не случайным выбором, а осознанным шагом, единственно возможным путём. Это был синтез двух миров моих родителей – мира стальной мощи отца и мира стратегической мудрости матери. Я шёл сюда не за славой, а за знанием. Я хотел постичь не просто ремесло войны, но её философию, её диалектику. И вот теперь, после лекции Колесникова, моё аккуратно выстроенное миропонимание дало трещину. Я всегда рассматривал технику как инструмент, пусть и сверхсложный. Но он говорил о симбиозе, о слиянии, о прорастании нервов в сталь. Это была не метафора, а новая онтология, открывающаяся лишь на грани жизни и смерти. Я мысленно возвращался к его глазам. В них не было ни боли, ни гордости, ни даже памяти. В них была лишь та самая «функция», о которой он говорил. Функция, которая осталась, когда отступило всё человеческое. Что остаётся от человека, когда он становится функцией? И где та грань, за которой функция поглощает человека, стирая его личность? Я вышел из аудитории и направился в главный зал Академии – зал, стены которого были увешаны портретами великих полководцев прошлого. Суворов, Кутузов, Жуков… Их глаза, запечатлённые художниками, смотрели на меня с немым вопросом. Они управляли живыми солдатами, чувствуя пульс армии как пульс собственного тела. Колесников же управлял машиной, чувствуя её как часть себя. Изменился ли принцип? Или просто масштабировалась единица, с которой сливается воля полководца? Я подошёл к огромному, во всю стену, витражу, изображавшему Александра Невского на Чудском озере. Лёд, сталь, воля. Тысячелетия проходили, а основа оставалась прежней. Но Колесников принёс с собой нечто новое – опыт преодоления не только врага, но и самой природы человеческого тела, его ограничений. «Не ржавеет только дух. Не устаревает только воля». Эти слова звучали во мне, как набат. Я смотрел на свои руки – руки, которые пока что держали лишь ручки и клавиатуры. Смогут ли они когда-нибудь, как у него, сродниться со сталью? Сможет ли мой дух, воспитанный на книгах и формулах, выдержать то давление, что превращает человека в функцию? Я не знал ответа. Но я чувствовал, что с этой лекции для меня начался новый путь. Путь не просто к званию офицера, а к некоему иному, более высокому и более страшному пониманию долга. «Мехвод» вёл, и я был готов следовать, даже не зная конечной цели. Ибо сам процесс этого следования уже был – посвящением в тайну, имя которой – истинная Цена Победы.
Я стоял у витража, все еще ощущая на себе тяжелый, проницательный взгляд Александра Невского, когда мерный, узнаваемый стук приблизился ко мне сзади. Я обернулся. Александр Владимирович Колесников находился в двух шагах, его фигура в строгом мундире казалась монолитом, высеченным из серого гранита.
– Курсант Воронов, – прозвучало его ровное, лишенное интонаций утверждение. Это не был вопрос. Он произнес мою фамилию с такой же неизбежностью, с какой геолог называет породу.
– Товарищ профессор, – я выпрямился по стойке «смирно», чувствуя, как под его взглядом обнажаются все мои недавние сомнения и размышления.
– Пройдемте со мной, – коротко бросил он и, не дожидаясь ответа, развернулся и зашагал своим неспешным, неумолимым шагом. Я последовал за ним, чувствуя себя космическим кораблем, попавшим в гравитационное поле нейтронной звезды. Мы миновали несколько длинных, пустынных коридоров, где наши шаги – его сухой стук и мои приглушенные – отдавались эхом под высокими сводами. Наконец, он остановился перед неприметной дверью из темного, отполированного дерева. Дверь отворилась бесшумно, впуская нас внутрь. Кабинет поразил меня с первой же секунды. Это был не рабочий кабинет в привычном понимании, а нечто среднее между научной лабораторией, музеем истории техники и кельей философа-отшельника. Свет исходил не от люстры, а от встроенных в потолок панелей, дающих ровное, холодное, без теней, освещение. Стены были заставлены стеллажами от пола до потолка. На одних покоились ветхие, в кожаном переплете фолианты – труды по стратегии Сунь-цзы, Клаузевица, Свечина. На других – ряды современных кристаллов памяти, мерцающие тусклым голубым светом. В углу, на отдельной подставке, стояла детально выполненная бронзовая модель русского тяжеловооруженного воина-богатыря, а рядом с ней – разрезная модель двигателя боевого экзоскелета последнего поколения. Но центральным элементом кабинета был огромный, монолитный стол из черного базальта. На его отполированной до зеркального блеска поверхности не было ни бумаг, ни мониторов. Лишь в самом центре лежал одинокий, сложенный вдвое лист плотной бумаги, да стояла небольшая голографическая проекционная сфера, напоминающая планету в кольцах из светящихся данных. Колесников прошел за стол и жестом предложил мне сесть в строгое кожаное кресло. Сам он опустился напротив, и его протезы, скрытые под столом, издали тот самый, хорошо смазанный щелчок.
– Я наблюдаю за вашими успехами, Воронов, – начал он, его пальцы сложились в замок на столешнице. «Ваши работы по тактическому анализу операций в гипотетическом безвоздушном пространстве Луны и психологическому портрету командира эпохи Сетей… Они демонстрируют не просто усвоение материала. Они демонстрируют синтез. Способность видеть систему там, где другие видят лишь разрозненные данные.
Он сделал паузу, и его взгляд, холодный и ясный, казалось, проникал сквозь мою черепную коробку, изучая узоры нейронов.
– История, которую вы изучали под руководством матери, и техническая дисциплина, унаследованная от отца, создали в вас уникальный сплав. Именно такой тип мышления требуется для следующего шага в эволюции военного дела.
Он коснулся проекционной сферы. Над столом вспыхнула сложная, трехмерная схема, напоминающая то ли нервную систему, то ли схему процессора.
– Я предлагаю вам принять участие в эксперименте, не имеющем аналогов. Его суть – преодоление последнего барьера между волей командира и его боевой единицей. Барьера хрупкого, уязвимого, биологического тела.
Схема изменилась, показав чертеж продолговатого, строгого контейнера, лишенного каких-либо видимых органов управления.
– Ваше физическое тело будет помещено в капсулу жизнеобеспечения. Путем применения технологий нейрокогерентного интерфейса нового поколения, ваше сознание, ваша личность, будет временно перенесена в управляющий модуль боевого антропоморфного аппарата «Полимат».
На схеме возник образ мощного, двуногого механизма, чьи стальные мускулы и линии напоминали одновременно и древнего воина, и футуристического идущего робота.
– Но вы не будете одни, – голос Колесникова стал еще более металлическим и весомым. – Вам предстоит не управление машиной, а симбиоз на уровне сознания с тактическим Искусственным Интеллектом. Ваша задача – не подчинить его, и не подчиниться ему. Ваша задача – слиться с ним в единый операторский конгломерат, где человеческая интуиция и нелинейность мышления будет усилена скоростью, логикой и безграничной вычислительной мощью ИИ. Вам предстоит пройти полевые испытания в условиях, максимально приближенных к боевым.
Я слушал, и мир вокруг меня словно терял свои очертания. Голографические схемы пылали передо мной, а слова «сознание», «перенос», «симбиоз» обретали зримую, почти осязаемую плоть. Это был тот самый прорыв, то самое «озарение», о котором он говорил на лекции, доведенное до своего логического, пугающего предела. Это был уход от человеческого облика ради служения человечеству. Сердце заколотилось в груди, не от страха, а от предвкушения бездны. Я видел перед собой не просто профессора, предлагающего эксперимент. Я видел Мехвода, который, потеряв свои ноги, нашел способ обрести новые, несравненно более мощные. И он протягивал мне, следующему поколению, шанс сделать шаг через ту же грань. Мысли о родителях, об истории, о долге сплелись в один мгновенный, ясный и неопровержимый вывод. Это был мой путь. Путь, на котором знание отца и мудрость матери должны были слиться в нечто новое, чтобы вести в бой уже не людей, и не машины, а воплощенную волю. Я встретил его взгляд, стараясь, чтобы мой голос звучал так же ровно и твердо, как его.
– Я согласен, товарищ профессор.
Колесников медленно кивнул. В его глазах, казалось, на мгновение мелькнуло нечто, напоминающее одобрение, или, возможно, понимание тяжести того выбора, что я только что сделал.
– Отлично, – сказал он. – Завтра в шесть ноль-ноль. Лабораторный корпус «Сигма». Испытание начнется.
Глава 2
Утро следующего дня не было похоже ни на одно из предыдущих в моей жизни. Солнечный свет, пробивавшийся сквозь высокое окно моей скромной комнаты в курсантском общежитии, казался чужим, отстранённым, словно наблюдающим за подготовкой к ритуалу, смысл которого был известен лишь посвящённым. Я проделал все привычные действия – утренний туалет, облачение в форму – с автоматической точностью, пока мой внутренний взор был обращён внутрь, пытаясь осознать грядущее. Я не испытывал страха в его обывательском понимании; скорее, это было чувство глубочайшей ответственности, подобное тому, что, должно быть, испытывал древний мореплаватель, впервые отважившийся выйти в открытый океан, руководствуясь лишь звёздами и смутными преданиями. Ровно в шесть ноль-ноль я пересек порог лабораторного корпуса «Сигма». Стерильная тишина, нарушаемая лишь низкочастотным гудением скрытых энергосистем, сменила шум утреннего города. Меня проводили в предоперационную, где группа молчаливых специалистов в белых халатах, чьи лица были бесстрастны, как у жрецов, произвела последние приготовления. Затем – холодное прикосновение сенсоров к вискам, кратковременная потеря ориентации, и…
…и я оказался в ином месте. Вернее, в ином теле. Моё первое ощущение было не зрительным, а тактильным – чувство невероятной, исполинской мощи. Я стоял. Но это не было стоянием на ногах из плоти и кости. Это было фундаментальное, незыблемое утверждение себя в пространстве, подобное скале, выросшей из земли. Я медленно, с величайшей осторожностью, попытался окинуть «взглядом» то, что стало моим новым «я». Аппарат «Полимат» был высотой около четырех метров. Его облик не был грубой пародией на человеческий; скорее, он воплощал его идеальную, утилитарную сущность, очищенную от биологических излишеств. Каркас, служивший основой, был собран из композитных балок тёмно-графитового цвета, напоминавших своим строением и крепостью костяк исполинского хищника доисторических эпох. В местах сочленений – плечи, локти, бёдра, колени – располагались силовые шарниры, закрытые ребристыми броневыми кожухами цвета воронёной стали. Они испускали лёгкое шипение при моей попытке пошевелиться, свидетельствуя о работе мощной гидравлики. Вместо мышц по всему корпусу были проложены пучки искусственных миофибрилл – упругих полимерных жгутов, которые под напряжением сжимались и расширялись, создавая плавность и мощь движений, недоступную старой механике. Они пульсировали тусклым багровым светом, словно по ним бежали потоки раскалённой лавы, выдавая кипящую в них энергию. «Грудь» и «спина» аппарата были защищены монолитными плитами керамо-титановой брони, на поверхности которой был вытравлен матовый, геометрический узор, снижающий заметность для радаров. В центре грудного блока пульсировали сдержанным синим светом основной энергетический реактор – сфера, заключённая в ажурную титановую клетку. Его ровное, глубокое гудение было моим новым сердцебиением. Мои «руки» заканчивались не кистями, а многофункциональными манипуляторами. Каждый палец был самостоятельным инструментом – от точного захвата, способного удержать микрочип, до мощных клешней, которым, я чувствовал, было под силу разорвать броню легкой техники. В предплечьях, за сдвижными панелями, я смутно ощущал присутствие встроенного оружия – его холодную, смертоносную готовность. «Ноги» представляли собой шедевр инженерной мысли – мощные, с рессорными суставами, позволявшими гасить колоссальные нагрузки. Ступни, широкие и устойчивые, были снабжены гидравлическими захватами для движения по сложному рельефу. Но самым поразительным был «шлем» – или то, что его заменяло. Голова «Полимата» была лишена какого-либо подобия лица. Вместо него располагалась гладкая, обтекаемая капсула с множеством сенсорных кластеров – лидары, радары, тепловизоры, оптические камеры с многократным зумом. Это был не орган зрения, а всевидящее око, способное воспринимать мир в десятках недоступных человеку спектров. Информация от всех этих систем не обрушилась на меня лавиной, а мягко, как шелковая нить, вплеталась в моё сознание, создавая целостную, объёмную и невероятно детализированную картину окружающего пространства. Я видел не просто ангар, в котором стоял. Я видел тепловые следы на полу, оставленные техниками минуту назад, электромагнитное поле силовых кабелей, залегающих в стенах, микроскопические трещинки в бетоне на расстоянии в пятьдесят метров. И в этом новом, стальном теле, я не был один. На периферии моего сознания, подобно далёкой, но неумолимой гравитационной волне, ощущалось присутствие Иного. Холодного, кристально ясного, безгранично сложного. Тактический ИИ. Он молчал, ожидая. В этот момент прозвучал голос Колесникова, не через уши, а напрямую в моё сознание, словно мысль, рождённая внутри: