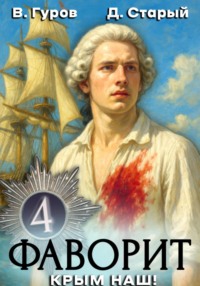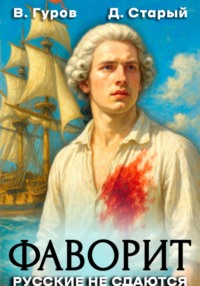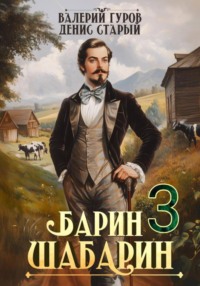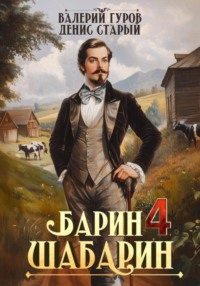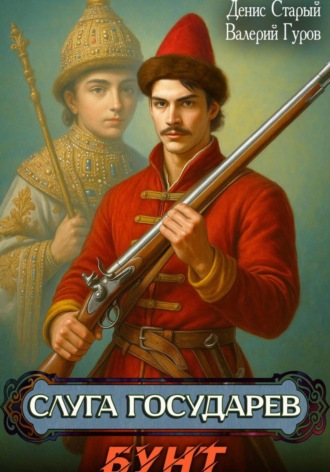
Полная версия
Слуга государев. Бунт
Но не это главная причина, почему бегство на Дон, или еще куда, где есть казачество – не для меня. Из головы не шло, как я воскресал и умирал… Весьма вероятно, что своими действиями я уже нарушил ход истории. И тут на ум приходит выражение: «мы в ответе за тех, кого приручили». Приручил ли я время – или оно меня, но чувство, что я должен теперь стать охранителем истории, не покидало меня.
Не может быть хуже, чем было. А лучше? Поживем, увидим. Поживем ли?..
– Ответьте, браты, а какой нынче день! Как по голове стукнули, так и забыл, – прежде чем принять решение, я решил уточнить обстоятельства своего появления в этом мире.
Не может быть, что та сила, что так лихо кидала меня по эпохам, в этот раз решила поместить в спокойные времена.
– Так одиннадцатый день мая, семь тысяч сто девяностое лето, – ответили мне.
Пришлось потратить время, чтобы вспомнить летоисчисление, вычесть… Хованский жив, май… Всё ясно. Восстание стрельцов. Я стрелец, уже дел натворил, последствия которых сложно предугадать. Появился долг, ответственность перед Отечеством. Ох, не тяжела ли Шапка Мономаха? Чего это я про шапку?
– Вот что, товарищи, – слово взял дядька Никанор. – Обиды сии, или не обиды, но разобраться – нужда есть непременная. Ищем по правде законной, а не в бунт восставать.
– И я правды искать стану! – с уверенностью в голосе сказал я. – А вы правды не ищете?
– Все мы правды ищем, – отвечал один из стрельцов, заходя мне за спину.
Вот оно, решение: или я сейчас рубану по голове мужика, что уже ведь зачем-то зашел мне за спину, или… Охранитель же я, значит, не бежать мне от проблем, а решать их. А то, что заберу еще одну жизнь, в данном случае проблем не решает, только создает.
– Ведите! – сказал я, аккуратно вкладывая саблю в ножны и начиная развязывать пояс.
Но вот что поразило – не обыскали. То ли не увидели, то ли посчитали не опасным, но под кафтаном у меня был пистолет – и его не забрали. Такому я не мог не порадоваться – всегда кстати иметь козырь. После уже, когда я сел на телегу, перед тем, как связали, я смог пистолет быстро засунуть под сено, что было утрамбовано на телеге.
Меня не били. Мне даже сочувствовали. Но вели к полковнику. Несли и тело полуполковника Фокина. Причем, хотя он ещё некоторое время нуждался в оказании медицинской помощи, никто даже не дернулся в сторону насильника. Так что я даже чувствовал благодарность со стороны стрельцов. Чего там, чувствовал? Я слышал конкретные слова. Достали уже стрельцов и полковник Горюшкин, и его брат двоюродный Степан Фокин, бывший заместителем полковника, а сейчас мной убитый.
И я слушал. Строил обиженную мину и слушал. Оказывается, я, вместе с другими десятниками Первого полка Стрелецкого приказа, батрачил в одном поместье под Москвой. Имение это принадлежит Юрию Алексеевичу Долгорукову, главе Стрелецкого приказа.
И все говорили о бесчинствах и полковника, и полуполковника, которого я отправил на тот свет, или куда там… Я, имея свой опыт, уже и сомневаюсь. Горюшкин и жалование задерживал, и вот так… заставлял работать на земле даже десятников.
Ведь все присутствующие – стрелецкие десятники. Так что мне сочувствовали, но оставаться без жалования, которое, по слухам, должны уже завтра раздавать, не хотели ни ради меня, ни даже ради моего, вроде бы как, отца. Хотя о нем высказывались только в уважительной форме. И судя по всему, не хотели ссориться и с сотником.
Юрий Алексеевич Долгоруков, выходит, не только полномочиями злоупотреблял, привлекая служивых на работы на личной дачке, но и унижал стрельцов. Хотят показать, что служивые – это всего-то холопы. Зря… Судя по всему, вот-вот терпение лопнет – и случится ужасное.
Бунт – это никогда не на пользу государству. И я знал, что случится. Москва будет разграблена – если не вся, то почти что вся. Особенно бояре и дворяне, связанные с Нарышкиными, пострадают. Стрельцы награбят себе много чего, разломают немало, пусть и ремесленных, но производств. Ну и ручьи крови… Нужно этот разгул стихии пусть не предотвратить, так как видно, что накипело, но направить в другое русло.
Получится? Одному Богу известно. Но разве неопределенность – это повод ничего не делать? Это причина засучить рукава и действовать.
Но, а пока я ехал в телеге, связанный. И мои мысли, казалось бы, звучали в голове вот такого узника и преступника утопией. Но это лишь казалось. На другой телеге везли тело убитого мной подполковника Фокина. Я сидел и имел возможность смотреть по сторонам, а вот убитого везли тайно, под сеном.
Уже скоро мы оказались в Москве. Что сказать?.. Собянина на них нет! Ну или кого иного, кто мог бы привести столицу в порядок. Нет, особой грязи я не видел, хотя кучи конского навоза никто не убирал. Но дома поставлены будто бы как попало – хаотично, кругом деревянные постройки. Дороги разбитые, грунтовые, с ухабами. Не дороги, а направления. Конечно, асфальтированных шоссе я тут не ожидал. Но и грунтовки могут быть ухоженными. Люди попадались разные: есть и явно нищие, во рванине. Но встречались и добротно одетые горожане, некоторые даже ходили с вооруженной охраной.
– Стой! – выкрикнул тот стрелец, что был за главного.
Две телеги остановились, как и три всадника. Они всегда были рядом и немного впереди, отгоняли плетью нищих, все норовивших подсунуться с просьбами о милостыне. Казалось, что без этого сопровождения по улицам Москвы и не пройти было.
– Ждем! – последовал следующий приказ.
– Чего ждем? – спросил я, елозя на жесткой телеге.
Отбил себе за больше чем полтора часа пути всё, что можно было отбить. Ямы, ухабы, кочки… И никаких амортизаторов, гибкой подвески, кроме разве мокрой соломы под задом.
– Батьку твоего и ждем. Пущай он решает, что делать дале. Ох, и натворил ты бед! – причитал один из стрельцов, вроде бы, его звали Никанор.
И он был мне дядькой. Хотя я почти уверен, что слово «дядька» в этом случае употребляется не для определения степени родства. Или не только для этого.
– Руки-то хоть отвяжи, затекли! – сказал я.
– Вот… Опять же… Говоришь, как басурманин какой, али немец. Затекли! Куды ж они затекти могут! – возмущался Никанор.
– В церкву его? А? Что, коли бесноватый? – высказал предположение еще один «умник».
– Лучше в церковь. А то куда еще? Батогами меня бить до смерти? Такое будущее у меня, того, кто заступился за девицу, да кто за правду стоял? – говорил я, а стрельцы вновь головы повжимали в плечи. – А что, товарищи, отчего Хованского все поминаете? Он ли стоит головой у стрельцов? Разве же не Долгорукову стрельцы подчиняются? Или слову своему изменить желаете?
Какие все же люди доверчивые до слов! Вот что животворящее отсутствие интернета и печати делает! Что ни скажешь, все воспринимается близко!
Полтора часа я слушал и анализировал ситуацию. Понял, что идет дело к бунту. Иван Хованский не является сейчас главой стрельцов. Он военачальник – да, популярный в этой среде, но не командир. А о нем только и разговоры. Значит, начинают стрельцы сомневаться. Тут бы в свою сторону эту силу повернуть.
А какая она, моя сторона? Да та, чтобы и мне было поздорову, и ход истории, если и нарушать, то только, чтобы России не навредить. К примеру, не дай Боже не случится той же петровской модернизации России. Но пусть бы это было несколько иначе, не так. Не через колено и без Красной площади, которая не из-за цвета кирпича и мостового камня красная, а от обилия пролитой крови.
Так что защитить Петра-царя нужно. А вот допустить стрельцов в Кремль нельзя. А то вновь будет на престоле нервный, психованный царь. Насколько я знаю, на Петра события, что только должны вотот начинаться, наложили изрядный отпечаток. И падучая впервые случилась именно после того.
Если здраво, с умом рассудить, то нельзя допустить и смерти Петра. А в остальном уже все из разряда «желательно». Так вот, было бы неплохо, чтобы стрельцы не разоряли Москву, сжигая усадьбы и склады. Желательно не допустить и пролития крови. В ходе бунта убить могут даже не за то, что ненавистный человек стоит на пути стрельцов. А так… походя, чтобы не путались под ногами и не мешали. Русский бунт, как отметил классик, бессмысленный и беспощадный.
Скоро, не прошло и десяти минут, как мы остановились в закуточке меж домами, прибыли те, кого тут и ждали. Я уже знал, что вон тот статный мужик в седле, одетый явно богаче остальных – мой отец. И сразу же начались упреки.
– Что ж ты сотворил? Зачем убил полуполковника? Заради девицы? Да пусть она горит в Преисподней, черти кабы жарили… Прости Господи, – мужик перекрестился. – Небось сама и виновата. Девицы-то приличные в домах сидят и лиц своих не показывают. А прочие – от лукавого.
Да я уже понял, что прикрываться тем, что не хотел дать насиловать девушку – бесполезно. Она, мол, сама виновата. Это мне напомнило случай в будущем, когда бушевала уличная революция в Египте, и одна впечатленная египетскими демократами английская журналистка очутилась в их толпе. И… была изнасилована чуть ли не дюжиной «демократов». Их осудили? Нет, журналистке назначили штраф. Ибо нечего находиться рядом с мужчинами в шортах и майке. Спровоцировала, ага.
Вот и тут положено, что девица при приближении мужчин убегает в дом. А ее «возжелатель» не может в доме насильничать. А вне дома, если девушка без мужского сопровождения? Да вот так – легко… По крайней мере, такое у меня складывалось впечатление.
– Покажи грудь свою! Палил жа с пистоля Фокин в тебя! – потребовал отец.
Штирлиц никогда не был так близко к провалу. Мне развязали руки, и я, осматриваясь, куда бежать, отвернул кафтан, а потом и рубаху.
– Святы Божа! – сказал отец, когда увидел…
А что он увидел? Ведь рана-то… Я как мог притянул подбородок к груди и сам узрел, что там было. Крестик, похоже, что из серебра, вжат в мою левую грудь, будто прорастая из меня. Вокруг – запекшаяся кровь, много крови, но крестик… А я-то чувствовал только зуд, но не боль. Очень хотелось почесать. И это удивительно. Словно недели две прошло, а не только пару часов назад случилось ранение.
А я-то знал, что и смерть…
И главное, ведь всё – как я и сказал, про крест-то!
– Господь всемогущий! – это, или что-то похожее, сказали все стрельцы, что по очереди, раздвигая плечами своих товарищей, смотрели на врощенный в грудь крестик. – И что же энто теперь?
Что делать? Ну кое-что я сделаю. Достал нож, скинул кафтан, распахнул нижний кафтан, или как там этот элемент одежды назвался, и…
– Что это ты? – удивился отец.
Я полоснул себя по боку, так, чтобы не задеть внутренних органов, но и чтобы кровь шла обильно.
– Ныне лягу и сделаю вид, что ранен. На меня полуголова напал, а не я на него! Так и было! – сказал я. – Поддержите ли, стрельцы?
Я прикрывал ладонью рану, между пальцев уже просачивалась кровь.
Иван Стрельчин, тот, сыном которого я стал, строго посмотрел на всех стрельцов.
– По шесть рублев каждому дам! – нехотя сказал сотник, а у стрельцов сразу же проявилось на лицах «чувство солидарности».
И вновь тряска, а я лежу и изображаю раненого. А, нет, не изображаю. В какой-то момент даже начала кружиться голова. Вот смеху будет, если я так доизображаюсь, что от потери крови – того. Шучу, пусть и по-черному, со смертью играю. Довезут.
К кому? К полковнику, наверняка. Горюшкин… Как же меня выворачивает от этой фамилии. Даже если полковник, что носит эту фамилию, и был бы хорошим человеком, он все равно будет мне противен и даже ненавистен.
Скоро мы въехали на какой-то двор. Я не видел, но слышал и ощущал, что вокруг собирается все больше людей. Приподнялся, чтобы рассмотреть происходящее. Это был достаточно просторный двор, окруженный домами, словно казармами. Может, это они и были.
А потом передо мной стали мелькать многие лица, бородатые, нередко со шрамом. Людей становилось все больше, и все сплошь вооруженные, в кафтанах – стрельцы, по всему видать.
– Иван, я разумею, что Егор – сын твой, но полковник не простит оного. Говорить нужно! Подметное письмо пришло от Хованского… – сказал мужик, смотрящий на меня, но обращающийся к моему отцу. – Токмо батюшка-воевода наш и спасет.
– От Хованского? – спросил я. – Будет у меня к вам, стрельцы, разговор.
Значит, что? Началось? Стрелецкий бунт? Подметное письмо – это листовка, призыв. И лежать вот так мне теперича невместно. Вот… И думать начинаю уже словами, что никогда не использовал.
Нужно действовать.
– Нам еще, Егор, сперва от Горюшкина отбиться! Опосля разговоры разговаривать, – сказал отец.
– От Горюшкина? Отобьемся! – отвечал я.
* * *
Кремль
11 мая 1682 года
Английская карета, украшенная синим бархатом по бокам, казалась на улицах Москвы чужой. Нет, каретами столицу России не удивишь, особенно рядом с Кремлем. Но такой, когда еще и кучера были в своей форме, на английский манер, да конская упряжь украшена перьями… Такого выезда не было ни у кого.
Чего ни сделаешь для своей жены, если она не взращенная в тереме русская женщина, а свободная нравом англичанка. Да, Евдокия Гамильтон, уже сколько… лет десять назад умерла. Но для ее мужа – словно живая. Прорастила в этом мужчине, тоже преклонного возраста, западничество. Оно уже корни пустило, и раскидистая крона дерева отбрасывала тень и на царя Алексея Михайловича, и на многих других русских людей.
Артамон Сергеевич Матвеев ехал по московской улице с чувством победителя. Он, пусть далеко не молодой человек, возвращался из опалы наполненным энергией. Почти шесть лет этот господин копил в себе, основанную на озлоблении и желании доказать всем свое превосходство, тягу к крутому изменению России. То, что шло ни шатко ни валко при Алексее Михайловиче, сейчас могло быть внедрено полноценно и быстро. Пришло время Артамона Матвеева – так считал этот человек.
Карета въехала на территорию Кремля через Спасские ворота. Стоящие на карауле стрельцы даже не пробовали останавливать такой экипаж. Да и были предупреждены о приезде, как некоторые считают, истинного хозяина Кремля в ближайшее время.
Карета остановилась у Красного крыльца Грановитой палаты. Невиданная почесть, встречать тут будь кого, кроме государя. На ступеньках стояла Наталья Кирилловна, в девичестве Нарышкина.
Артамон Сергеевич дождался, когда слуги поставят ступеньки, обшитые красным бархатом, сам открыл дверцу кареты и чинно, высоко подняв подбородок, сошел на расстеленную красную дорожку. Сделав несколько шагов, мужчина остановился. Наталья Кирилловна, вдовая царица, сама спустилась к своему воспитателю.
– Дядюшка, поздорову ли? Как же я рада видети тебя. Нынче нас никто же не низложит. Будь же сыну моему первым советником и опорою! – сказала Наталья Кирилловна и…
Даже стоящий неподалеку стрелец-рында и тот расширил глаза, ибо произошло невиданное: царица поцеловала руку пока даже не боярину, и не своему отцу [рында – стража, телохранитель].
– Что в силах моих, царица, что в моих силах и с Божией помощью, – сказал Матвеев и направился вверх по лестнице.
Внутри уже все было готово для того, чтобы встречать дорогого… Нет, не гостя, скорее – хозяина.
– Ваше величество, – сказал Артамон Сергеевич, когда из-за спины одного из братьев царицы, Мартемьяна Кирилловича, выглянул малолетний царь.
– А с чего на немецкий манер, дядька, обращаешься ко мне? – с интересом, уже без опаски, выйдя из своего «укрытия», спрашивал Петр Алексеевич.
– Тебе видится сие сомнительным, государь? – спросил Матвеев, желая присесть на корточки, чтобы быть одним ростом с царем.
Но не стал сгибать колен, с удивлением видя, насколько же Петр высок. Еще немного, и самого Матвеева перерастет.
– Я не знаю, дядька. Странно сие, – отвечал государь.
Не прошло еще и двадцати дней, как Петр Алексеевич был провозглашен царем. Эта победа казалась венцом величия Нарышкиных. Всё, теперь они в силе. Раньше нужно было ждать милости от потомства Милославских, и эта милость была. Нынче Нарышкины считали, что пришло их время являть свою заботу за потомством от первой жены царя Алексея Михайловича. И будет милость с заботой, не оставят, как думали все, победители Милославских.
– Не пора ли государю спать-отдыхать? День нынче, – строго сказал Матвеев, показывая, кто тут хозяин и сразу же определяя свое право влиять на малолетнего царя.
Петра увели в опочивальню. Государя уже покормили, так что и спать пора после обеда. А вот все остальные, собравшиеся в Грановитой палате, не ели, ждали приезда Артамона Сергеевича.
– Где Иван, Марфа и Софья? – спросил Матвеев.
– Иван спит уже. Он тут. А Софья с Марфой на богомолье уехали, – отвечала Наталья Кирилловна, провожая своего воспитателя к столам, что накрыли прямо в палате Боярской Думы.
– Можешь остаться, – сказал Матвеев, понимая, что будучи даже царицей, Наталья оставалась бабой, а значит, должна бы уйти и не мешать мужам пировать.
Так что слова должны были прозвучать.
Тут уже были и Юрий Алексеевич Долгоруков, и многие из Нарышкиных. Нужно было многие дела обсудить. Как были уверены собравшиеся люди – начинается их время, и нужно наметить, кого казнить или отстранить, ну а кого и миловать.
Глава 4
Москва. Стрелецкий приказ
11 мая 1682 года
– Вот что случилось, товарищи… – кричал мужик, который был, вроде бы как, моим отцом.
Словам Ивана внимали. По крайней мере, я пока не слышал иных голосов, никто не перебивал его. Так что я лежал в телеге и без особого труда играл раненого человека. Разве сложно это делать, если и так весь в крови?
И тут замолчал и мой отец. Хотя до того, как мне показалось, он уже находил отклик у стрельцов. Что же переменилось?
– Где он? Отчего я ещё до сих пор не содрал шкуру с того вора? – услышал я истошный крик [в это время слово «вор» употребляется в том числе и для обозначения любого разбойника или даже государственного изменника].
Было видно – никакие аргументы, в том числе, что я ранен и лежу при смерти, не могут остановить того, кто сейчас так разгневанно требует моей смерти.
В том, что это Горюшкин, я не сомневался. Пока мы шли до Стрелецкого приказа, успел я наслушаться и о том, каков нрав у полковника, и какой он при этом скотина. И почему эта фамилия в двух временах для меня становится синонимом человека, впитавшего в себя самые низменные и преступные качества? Кто так шутит со мной?
– Полковник, судить потребно десятника! Стрельцы правды хотят! – пробасил мой отец.
Вот только я слышал в этом голосе некоторую обречённость, нерешительность. Таким тоном говорит боец, когда предлагает прикрыть отход отряда, понимая, что шансов выжить при этом нет. Решительно, но прощаясь.
– А-а! Поди прочь, сотник! Ты на плаху пойдёшь последующим – за то, что сына воспитал вором! – продолжал напирать Горюшкин.
Я приподнялся в телеге, чтобы не только слышать, но и видеть происходящее. И всё-таки идея бежать к казакам теперь казалась мне не столь безрассудной. Но такой ли я? Нет, не такой. Все потеряв в прошлой жизни, я в любой другой, если только неведомые силы мне будут давать шансы начать все с начала, буду стремиться получить, как говорится, «полную чашу».
Отец…, а там, наверное, есть и мать, возможно, ещё и другие родственники. Я не питал к этим людям тех искренних чувств, которые можно испытывать к близким. Однако внутри меня что-то шевельнулось. Я, потеряв всю свою семью, пусть до конца в этом себе ещё не признался, но хватался теперь за соломинку, за тонкую верёвку в поисках какого-нибудь якоря, чтобы хотелось жить. Я не могу жить только для себя, так воспитан, такие принципы имел раньше. Я жил для своего Отечества, для своей семьи. Ту семью мне не дано было уберечь, родных моих. А вот эту… Обязан. Может, и в этом тоже мое предназначение. Ну не зря же все вот это… моя новая жизнь в конце семнадцатого века!
– Григорий Иванович, ты ж не серчай так… Разумею я все… Сына накажу плетьми… А тебе триста рублев дам, – отец начал лебезить перед полковником.
Что же это я слышу, ну и дела! Взятку предлагает родитель? За что? За то, что за мной правда?
– Триста рублев? И мастерская твоя мне перейдет… И все, что есть в ней! – будто бы нехотя, но я-то видел, как загорелись глаза у полковника, торговался Горюшкин.
Отец посмотрел на меня таким печальным взглядом. Понятно, что полковник требует очень многое, наверное, все, что есть у сотника Стрельчина, у моего родителя.
– Добро… – сказал отец, и я даже увидел, как слеза потекла из его глаза.
Спасибо, конечно, я проникся такой жертвой. Но…
– Нет… Не добро! Прости, отец. Но я не отрок, сам решаю. Когда даешь вору, то он ворует еще больше. Даешь взятку… мзду, а после и всегда придется давать. Порочный круг разрывать нужно! – сказал я.
Отец, было видно, хотел мне ответить, но я уже обращался к Горюшкину.
– Полковник, ты поговорить со мною хочешь? Нарушить заповеди Господни стремишься? – выкрикнул я, приподнимаясь и неловко выбираясь из телеги.
Голова кружилась, но решительность и какая-то злость, жажда найти правду подталкивали меня к действию. Это, может, для всех собравшихся здесь, во дворе Стрелецкого приказа, неважно, что девочка-подросток была едва-едва не изнасилована, а к тому ж избита, опозорена, что я и убил-то полуполковника только лишь потому, что он сам на меня попёр с саблей.
Не я начал. Но дальнейшие события не могут пройти без моего деятельного участия.
– Так что про заповеди? – напомнил я, когда Горюшкин сразу не ответил.
– Какие заповеди? – вдруг опешил полковник.
Я всё приглядывался к нему, почти что против воли. Не мог оторвать взгляда и даже нашел какие-то общие черты в том Горюшкине-отце и в этом полковнике. Оба светлые, почти блондины, светло-русые. При этом нос не картошкой, а крючковатый, будто сломанный. А может, так и было? Рослый, широк в плечах, борода с трудом скрывает серьезный шрам на бороде. Тот олигарх то же обладал внушительными плечами, да и всем прокаченным телом. Спортивный гад был, чтобы его черти отфритюрили.
– Не суди, да не судим будешь! – отвечал я, понимая, что «играть на религии» – может, один из немногих моих шансов.
– Судить? Ты сродственника моего загубил. Ты! Гнилые уды дохлого пса! – прозвучало заковыристое оскорбление.
– Я так понимаю, что ты сейчас имя своё настоящее произнёс? – с вызовом ответил я в детской манере «сам такой».
Казалось, что густая русая борода мужика ожила каждым своим волоском, когда лицо его побагровело от злости. Словно мифическая медуза Горгона, у которой вместо волос были змеи. И я смотрел на этого пышущего жаром мужика. Смотрел, но не превращался в камень. Повывелись Горгоны, не те уже нынче. Хотя, если обратить внимание, как смотрят на полковника другие стрельцы, то можно подумать, что они и вправду превратились в камень.
– Зарублю гада! – раздался истошный крик полковника.
Он извлёк из ножен свою саблю и бросился в мою сторону.
– Дзынь! – ударился металл о металл, высекая искры.
Это мой отец подставил свою саблю, загораживая проход ко мне.
– Ты?! – казалось, что нет предела удивлению полковника.
Он был всесильным. Он унижал, а другие унижались. Он чувствовал себя божком. А теперь этот культ рушится. Это всегда болезненно для самовлюбленного самодура.
Я резко спрыгнул с телеги. Повело, конечно, но за два шага я выровнял равновесие. В руках уже был пистолет, который тайком подложил рядом со мной, под сено, отец.
– Уйди, полковник! Застрелю! Отца моего не тронь! – выкрикнул я, направляя оружие в сторону Горюшкина.
Я бы уже выстрелил. Горюшкин покинул бы этот бренный мир, если бы не отец, который сейчас стоял напротив полковника, наготове сойтись с ним в поединке на клинках. Была опасность задеть родителя. А, может быть, исполнив некое предназначение в одном времени, я должен был убить ещё одного дряного человечишку и сейчас?
Резко просвистела, рассекая воздух, сабля – полковник нанёс боковой удар в сторону плеча моего отца. Родителя повело в сторону, он запутался в своих ногах и рухнул.
– Бах! – уже не сомневаясь, я выжал спусковой крючок.
Глаза полковника расширились, казалось, сейчас глазные яблоки выпрыгнут из глазниц. Он, не веря, посмотрел на свой живот, на меня. А потом глаза злодея поспешили спрятаться – зрачки закатились за веки, и в полной тишине полковник упал на деревянную мостовую.
Уже собралось больше сотни человек, большая часть двора немалой усадьбы была заполнена стрельцами. Все они молчали и смотрели то на меня, то на лежащего без движения полковника. Отец мой сел, зажимая правой рукой рану на левом плече, и в страхе крутил головой. Он будто бы ждал, что толпа сейчас меня сомнёт, растопчет, разберёт на мелкие кусочки.
Но толпа безмолвствовала. Молчал пока и я, стараясь разглядеть в лицах этих людей, чего же они всё-таки больше ожидают. Может быть, того, что разверзнутся хляби небесные – и меня долбанёт молнией? И были здесь стрельцы не только в красных мундирах, хотя таковых большинство. Были и в синих, и в жёлтых… Это резало глаз, так много ярких цветов, а у меня – пелена перед глазами.