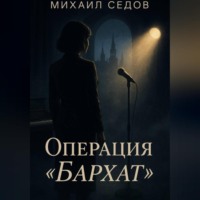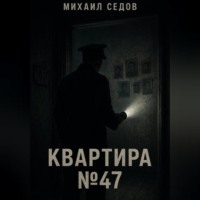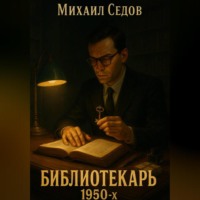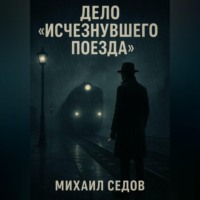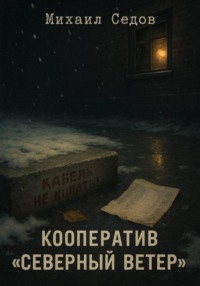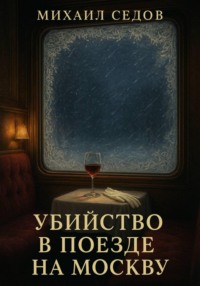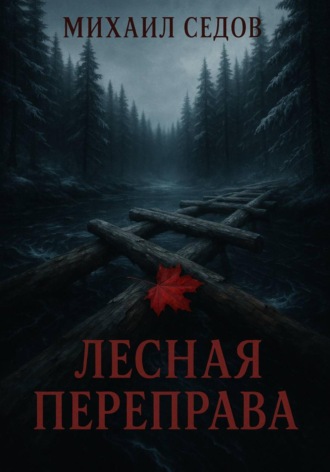
Полная версия
Лесная переправа
Тени прошлого
Дни, последовавшие за прибытием Дымова, превратились для Ладожского в подобие внутренней ссылки. Он был свободен в передвижениях, но лишен права действовать. Официально он числился прикомандированным к следственной группе, на деле же – превратился в праздного наблюдателя, тень, скользящую по периферии чужого, грубо поставленного спектакля. Гостиница стала его тюрьмой, а окно – единственным амфитеатром. Он видел, как дважды в день под конвоем выводили на допрос бледного, осунувшегося студента, как урядник с жандармами врывались с обысками в рабочие бараки, производя много шума и не находя ничего, кроме пустых бутылок и засаленных карт. Дымов работал кулаками и криком, выбивая из Ветрова нужные ему показания, как выбивают пыль из старого ковра. Город съежился, замолчал еще глубже, но теперь его молчание было иным – в нем не осталось мистического ужаса, лишь унизительный, животный страх перед мундиром и нагайкой.
Ладожский не вмешивался. Он принял навязанную ему роль с холодным, почти безразличным смирением. Каждый вечер он аккуратно затачивал карандаш, садился за стол и при свете сальной свечи составлял подробный, но совершенно фиктивный отчет о проделанной за день работе: «Опрошен трактирщик Сидоркин, показаний, имеющих значение для дела, не дал. Проведена беседа с лавочником Жуковым, сведений о неблагонадежных элементах не имеет…» Это была его дань абсурду, его способ сохранить рассудок в этом театре казенной лжи. Бумаги, исписанные ровным, протокольным почерком, он складывал в пустую папку. Они предназначались для одного зрителя – для него самого. Это было его личное, тайное следствие, ведущееся параллельно с официальным.
Настоящая работа начиналась, когда Ветров засыпал, убаюканный воем ветра в печных трубах. Ладожский доставал из тайника под рассохшейся половицей единственный весомый трофей своего расследования – пожелтевший черновик договора. Пять фамилий. Савельев, Мухин, Корчагин, и еще две – купец Рябов и мещанин Звонарев. Он выучил их наизусть, как молитву или приговор. Он смотрел на них, и выцветшие чернила на ломкой бумаге казались ему картой, ведущей в самое сердце тьмы, окутавшей этот город. Дымов искал врагов сегодняшнего дня. Ладожский понимал, что искать нужно призраков дня вчерашнего.
Он ждал три дня. Ждал, пока Дымов увязнет в допросах, пока бдительность урядника притупится, пока его, Ладожского, фигура станет привычной и незаметной частью городского пейзажа. На четвертый день, ранним, еще почти ночным утром, когда мороз сковал грязь на улицах и воздух был тонок и хрупок, как первый лед, он вышел из гостиницы. Он шел не в управление, где теперь хозяйничал капитан, а в уездную управу, к тому самому архиву, что уже подарил ему первую нить.
Архивариус, Аркадий Савельевич, встретил его без удивления, но с плохо скрытой тревогой. Старик был похож на древний гриб-трутовик, вросший в свои стеллажи, и любой посетитель нарушал его симбиоз с бумажной пылью.
– Опять вы, ваше высокоблагородие, – прошамкал он, не поднимая глаз от гроссбуха. – Нынче у нас начальство другое. Господин капитан Дымов строжайше запретили… без их ведома…
– Господин капитан занят государственными делами, – ровным голосом произнес Ладожский, кладя на стол перед стариком несколько бумажек. Это была не взятка. Это был пропуск в другой мир, приглашение к разговору на языке, который здесь понимали лучше, чем язык приказов. Два серебряных рубля тускло блеснули в утреннем полумраке. – А у меня дела бумажные. Тихие. Я не буду шуметь. Мне нужны дела Лесного ведомства. С восемьдесят восьмого по девяносто второй. И еще… земельные книги по Заветлужью за тот же период.
Старик посмотрел на рубли, потом на Ладожского. Его выцветшие, слезящиеся глаза были полны вековой крестьянской хитрости и усталости. Он видел сотни таких, как Дымов, – шумных, самоуверенных, временных. И видел таких, как Ладожский, – тихих, упрямых, опасных своей въедливостью. Он вздохнул, поднимая с собой облачко пыли. Этот вздох был его согласием. Не поднимая денег, он пошаркал вглубь хранилища, и его шаги затихли между стеллажами, словно он растворился в бумажном сумраке.
Ладожский остался один. Холод здесь был особенный, не уличный. Он шел не от стен, а от самих бумаг. Это был холод забвения, холод тысяч дней, смертей, рождений, сделок и обид, спрессованных в тугие, перевязанные бечевкой папки. Он зажег принесенную с собой свечу и поставил ее на угол массивного стола. Ее маленький, трепетный огонек выхватил из темноты круг света, в котором плавали мириады пылинок – прах минувших лет.
Работа была сродни просеиванию золы в поисках уцелевшей драгоценности. Он перебирал листы, и под его пальцами шуршала история Ветрова, изложенная мертвым языком канцелярии. «Прошение купца Рябова о дозволении на вырубку…», «Жалоба мещанина Звонарева на самовольный захват сенокосных угодий купцом Савельевым…», «Дело о передаче в аренду земель под смолокуренный завод господину Корчагину…». Имена из его списка всплывали постоянно, переплетались в тугой клубок деловых интересов, мелких тяжб и крупных сделок. Они были хозяевами этого края, делили его леса, реки и земли, как делят за обедом пирог. Мухин в этой компании выглядел белой вороной – его фамилия встречалась лишь в приходских книгах да в списках податных душ. Крестьянин, волею случая или хитрости попавший в компанию волков.
Договор о «товариществе на паях» так и не всплывал. Ладожский и не ждал этого. Тот черновик, вероятно, был единственным письменным следом их сговора. Преступные союзы редко скрепляются гербовой бумагой. Он искал не сам договор, а его эхо, его тень в других делах. Что-то, что последовало за ним.
Прошло несколько часов. Свеча оплыла наполовину. Пальцы закоченели, а глаза болели от напряжения. Он уже готов был сдаться, отложить поиски до завтра, когда в одной из папок с грифом «Губернское правление. Входящая корреспонденция» он наткнулся на это.
Это было не дело, а лишь сопроводительное письмо, подшитое к какому-то незначительному отчету о состоянии лесных дорог. Официальный бланк, витиеватый почерк губернского секретаря. В письме содержался запрос в уездную управу с требованием предоставить «вспомоществование и содействие» членам особой казенной экспедиции, направляемой в Заветлужье «для проведения геологоразведочных работ и изыскания рудных месторождений, потребных для нужд казны». Дата – май 1890 года.
Ладожский почувствовал, как участился пульс. 1890 год. Год, последовавший за заключением тайного договора. Он пробежал глазами текст дальше. И вот оно. В конце письма, в качестве приложения, шел список «лиц, прикомандированных к экспедиции от уездного купечества и мещанства в качестве проводников и консультантов, сведущих в местных условиях». Пять фамилий. Савельев. Рябов. Звонарев. Корчагин. И последним, почти приписанным на полях, – крестьянин деревни Малиновки Тимофей Мухин.
Список совпадал. До последней буквы.
Кровь стучала в висках. Вот оно. Их тайное «товарищество» обрело легальное прикрытие. Респектабельная казенная экспедиция. Идеальный способ проникнуть в самые глухие, нетронутые уголки тайги под благовидным предлогом. Искали не руду, это было ясно. Искали что-то другое. Что-то, что нужно было взять тихо, без свидетелей, под защитой государственной бумаги.
– Аркадий Савельевич! – его голос прозвучал в мертвой тишине архива слишком громко, почти как выстрел.
Старик материализовался из темноты, словно и не уходил никуда, а все это время стоял за стеллажом, наблюдая.
– Мне нужно дело об этой экспедиции. Май 1890 года. Геологоразведка.
Архивариус нахмурился, его лицо, похожее на печеное яблоко, сморщилось еще больше. Он подошел, склонился над бумагой, долго водил костлявым пальцем по строчкам, словно читая по слогам.
– Экспедиция… Помню, было такое, – проскрипел он. – Шумное дело было. Из губернии чины приезжали. Геологи… с молоточками ходили, камни кололи. Говорили, железо ищут. Не нашли ничего, сказывали. Пустое место.
– Дело, Аркадий Савельевич. Мне нужен отчет экспедиции.
Старик покачал головой.
– А нету его.
– Как это – нету? – Ладожский почувствовал, как внутри поднимается холодное раздражение. – Казенная экспедиция не может не иметь отчета. Он должен быть здесь.
– Должен, да нету, – упрямо повторил архивариус. Он пошаркал к огромному регистрационному журналу, лежавшему на отдельной конторке, долго листал его склеившиеся страницы, пачкая пальцы чернилами и временем. Наконец он нашел нужную страницу. – Вот, извольте видеть. «Дело № 114. Об итогах геологоразведочной экспедиции в Заветлужском уезде». А супротив записи – помета.
Ладожский склонился над журналом. Рядом с аккуратно выведенной записью другим почерком, торопливым и нервным, было нацарапано: «Дело со всеми приложениями изъято по особому распоряжению члена Губернского правления господина статского советника Вяземцева. Июль 1890 года».
Изъято. Не утеряно, не списано в утиль. Изъято. Пятнадцать лет назад кто-то влиятельный позаботился о том, чтобы все следы этой экспедиции исчезли. Кто-то зачистил историю, вырвал из нее страницу.
– Вяземцев… – пробормотал Ладожский. Фамилия была ему знакома. Статский советник Вяземцев уже лет десять как покоился на губернском кладбище, умерев от апоплексического удара. Спросить было не с кого. Концы были обрублены.
– А кто забирал? Помните? – спросил он старика.
Аркадий Савельевич пожал плечами.
– Приезжал фельдъегерь из Архангельска. С бумагой. Я тогда еще не главным был, а помощником. Мне что велели, то я и отдал. Запаковали в пакет, сургучом залили. И все. Больше я тех бумаг не видал. И никто не спрашивал. До сего дня.
Он смотрел на Ладожского с новым выражением. Страх в его глазах сменился чем-то похожим на уважение или даже сочувствие. Он понял, какую могилу пытается раскопать этот упрямый следователь.
– Дурное это дело, ваше высокоблагородие, – сказал он тихо, почти шепотом. – Старое. Не надо его трогать. Кто тогда был при силе, у тех и сейчас детки да племяннички в креслах сидят. Не дадут они вам правду найти. Закопают рядом.
Ладожский не ответил. Он смотрел на пометку в журнале. «Изъято». Это слово было ключом ко всему. Оно превращало смутные догадки в уверенность. В мае 1890 года пятеро ветровских дельцов под прикрытием казенной бумаги отправились в тайгу. А в июле кто-то очень могущественный и очень напуганный сделал все, чтобы их поход был навсегда вычеркнут из истории. Что же там произошло? Что они там нашли или сделали такого, что потребовалось вмешательство губернских властей? Какая тайна была похоронена в лесной глуши вместе с отчетом экспедиции?
Он вернулся в свою комнату, когда уже совсем рассвело. Город просыпался. Скрипели ворота, дымили трубы, мычали в хлевах коровы. Но для Ладожского это была лишь декорация. За ней он теперь видел другое – заговор молчания, которому было пятнадцать лет. Он сидел у холодного окна, и в его голове складывалась картина. Не убийства. А то, что было до них. Преступление, совершенное тогда, в 1890-м. Преступление настолько страшное, что его пришлось скрывать на самом высоком уровне. А нынешние убийства – не новое преступление. Это было правосудие. Отложенное, извращенное, дикое, но правосудие.
Капитан Дымов со своими жандармами ломал кости невинным, пытаясь найти ответ в сегодняшнем дне. Он был слеп. Ответ лежал там, в прошлом, под толстым слоем архивной пыли и казенной лжи. И Ладожский был единственным, кто теперь знал, где копать. Он больше не искал следы на снегу. Он искал шрамы на теле истории. И он чувствовал, что самый глубокий, самый уродливый шрам оставлен где-то там, в Заветлужье, у старой лесной переправы, в том самом месте, где тайга встречается с рекой. И чтобы понять, что происходит сейчас, ему нужно было вернуться туда. В май 1890 года.
Разговор с доктором
Бумага, которую Баспин в итоге подал капитану Дымову, была шедевром медицинской казуистики. Каждая фраза, выверенная до последней запятой, говорила правду, но вся совокупность этих фраз искусно лгала. Он описал раневой канал, упомянул о пересеченной артерии и даже позволил себе туманный пассаж о «необходимости приложения значительной, точно сфокусированной силы». Но он опустил главное – вывод. Он не написал слово «казнь», которое произнес в разговоре с Ладожским. Он не упомянул о «профессионализме», который граничил с искусством хирурга. Он представил Дымову набор голых, препарированных фактов, лишенных души и смысла, зная, что капитан сам вложит в них тот смысл, который ему требовался. Это было единственное, на что он мог пойти, не солгав напрямую и не погубив окончательно свою службу. Дымов остался доволен. Он получил то, что хотел: документ, которым можно было помахать перед начальством, лишенный неудобных «интеллигентских тонкостей».
Но эта маленькая, трусливая победа не принесла Баспину облегчения. Напротив, она оставила во рту привкус пепла. Он чувствовал себя предателем. Не по отношению к Дымову или системе, которую тот представлял, – эту систему Павел Андреевич начинал презирать с холодной, ясной ненавистью. Он предал свою собственную веру. Наука, его религия, его способ постижения мира, была низведена до уровня потаскухи, обязанной услужить силе. Он, врач, призванный давать точные диагнозы, поставил диагноз ложный. Не городу – самому себе. И диагноз этот был прост: малодушие.
Последующие дни он провел в лихорадочной, почти сомнамбулической деятельности. Он обходил своих пациентов, выписывал порошки от кашля и мази от ломоты в суставах, принимал роды у жены лавочника. Он погрузился в рутину, в целительную монотонность своей профессии, пытаясь затереть, заглушить ею тот диссонанс, что теперь звучал в его душе. Но это не помогало. Мир Ветрова раскололся для него надвое. Была видимая, поверхностная хворь – катары, родильная горячка, переломы. А была другая, глубинная, метастазирующая патология молчания, и ее симптомы – два аккуратно уложенных в лесу тела – были страшнее любой чахотки. И он, врач, оказался бессилен перед ней. Хуже того – он стал ее соучастником.
Мысль о своем предшественнике, докторе Запольском, приходила все чаще. Старик умер два года назад, тихо, во сне, оставив после себя репутацию чудака и пьяницы, но при этом отменного лекаря старой закалки. Баспин, приехавший ему на смену, поначалу свысока относился к его методам – к припаркам из трав, к недоверию новомодным столичным лекарствам. Он видел в Запольском реликт, осколок уходящей, ненаучной эпохи. Но сейчас, вспоминая редкие разговоры с ним, Павел Андреевич начинал понимать, что за стариковским брюзжанием скрывалась глубокая, выстраданная мудрость. Особенно одна фраза, брошенная как-то под вечер за рюмкой наливки: «Здесь, сынок, главный анамнез не в карточке больного, а в памяти города. А память эта – гнилая. И не тронь ее, если не хочешь сам заразиться».
Тогда Баспин списал это на старческий пессимизм. Теперь эти слова звучали как пророчество. И как диагноз. Анамнез города.
Эта мысль не давала ему покоя. Она сверлила его мозг во время бессонных ночей, когда за окном выла вьюга, а в ушах стоял воображаемый предсмертный хрип Игната Мухина. Что, если Запольский знал? Что, если он тоже видел симптомы этой застарелой болезни и, в отличие от него, Баспина, не отвернулся, а записал их своим старомодным, каллиграфическим почерком?
Желание проверить эту догадку переросло в навязчивую идею. Это было не любопытство. Это была отчаянная попытка найти опору, найти доказательство того, что он не сошел с ума, что чудовищная картина, сложившаяся в его голове, имеет под собой реальную почву. Это была потребность в профессиональной реабилитации, пусть даже тайной, известной лишь ему одному.
Больничный архив располагался в подвале, в бывшей кладовой для солений. Воздух здесь был густой, застойный, пахнущий не только бумажной пылью, как в управе, но и мышами, и едва уловимыми, въевшимися в стены запахами лекарств – камфорой, йодоформом, валерианой. Это была квинтэссенция всех страданий, что прошли через эти стены за полвека существования земской больницы. Толстые амбарные книги, перевязанные истлевшей бечевкой, громоздились на рассохшихся деревянных стеллажах. Каждая из них была летописью боли.
Баспин зажег фонарь «летучая мышь». Его неровный свет выхватывал из темноты корешки с выцветшими датами: «1902», «1898», «1895»… Он искал нужный период, конец восьмидесятых – начало девяностых. Пальцы пачкались в многолетней саже, под ногти забивалась труха. Вот они. Несколько пухлых, тяжелых томов, обернутых в серый картон. «Книга записи амбулаторных больных и случаев внезапной смерти. 1888–1891». Он снял нужный том со стеллажа. Книга была тяжелой, как надгробный камень.
Он принес ее к себе в кабинет, положил на стол, словно какой-то запретный, опасный артефакт. Прежде чем открыть, он налил себе воды, поправил пенсне. Сердце стучало глухо и тяжело. Он чувствовал себя одновременно осквернителем могил и исповедником.
Почерк Запольского был именно таким, каким он его и представлял: бисерный, четкий, с затейливыми росчерками и старорежимными «ятями». Но за внешней аккуратностью скрывалась усталость. Некоторые буквы были смазаны, словно рука доктора дрогнула. Баспин начал листать, погружаясь в прошлое. Страница за страницей перед ним проходила обыденная жизнь уезда: «Марфа Кошкина, 32 лет. Родильная горячка. Исход летальный». «Иван Сидоров, 9 лет. Скарлатина. Исход…» «Петр Григорьев, 45 лет. Ушиб грудной клетки при падении с воза. Назначены примочки». Жизнь и смерть шли рука об руку, без пафоса и трагедии, как простая констатация факта.
Он пролистал до весны 1890 года. Май. Записи шли своим чередом: простуды, поносы, чесотка. Ничего необычного. Июнь. И вот, в середине месяца, первая запись, заставившая его замереть.
«17 июня 1890 г. Доставлены тела крестьян переселенческой артели из Малиновки: Акима Борисова, 38 лет, и Степана Власова, 41 года. Со слов старосты, найдены в лесу, в урочище Черный Лог. Причина смерти: нападение медведя-шатуна. Осмотр произведен в присутствии урядника. Множественные рваные раны, переломы ребер, повреждения черепа…»
Баспин нахмурился. Медведь-шатун в июне – редкость, но случается. Описание травм было вполне типичным для нападения крупного зверя. Он уже готов был перевернуть страницу, как вдруг его взгляд зацепился за последнюю фразу, написанную чуть более мелким, убористым почерком, словно Запольский добавил ее позже, после долгих раздумий: «Обращает на себя внимание нехарактерное для звериных когтей ровное, почти сквозное повреждение в области шеи у обоих тел, приведшее к обильной внутренней кровопотере».
Кровь отхлынула от лица Павла Андреевича. Он перечитал фразу еще раз. И еще. Ровное, сквозное повреждение в области шеи. Он закрыл глаза и увидел перед собой два других тела, из своего времени. Тела Мухина и Савельева. И раны под их ключицами. Он почувствовал, как по спине пробежал ледяной ток. Совпадение? Возможно. Ужасное, невероятное, но все же совпадение.
Дрожащими пальцами он перевернул страницу. И через несколько записей о летних хворях наткнулся на следующую.
«21 июня 1890 г. Доставлено тело крестьянина той же артели, Ефима Дорохова, 29 лет. Найден у лесной переправы через реку Ветлянку. Причина смерти, со слов очевидцев: несчастный случай при валке леса, удар упавшим суком. Осмотр: обширная гематома головы, перелом основания черепа. Смерть мгновенная».
На первый взгляд, все было логично. Лесоповал – дело опасное. Но и здесь, в самом конце, следовала приписка, сделанная тем же тревожным, сжатым почерком: «При осмотре также обнаружена колотая рана в левой подключичной области, неглубокая, не задевшая жизненно важных органов. Происхождение раны неясно, возможно, получена ранее».
Теперь Баспин уже не сомневался. Это не было совпадением. Это была система. Система сокрытия. Запольский видел. Он все видел. Он видел странные раны, не укладывающиеся в официальную версию, но он не смел о них заявить в открытую. Он был врачом в маленьком, затерянном городке, а не столичным светилом судебной медицины. Что он мог противопоставить словам урядника, старосты, «очевидцев»? Ничего. Все, что он мог сделать, – это оставить эти маленькие, почти невидимые записки на полях. Капсулы с ядом правды, заложенные в тело лживого отчета. Записки для будущего. Для того, кто когда-нибудь откроет эту книгу и сможет их прочесть. И этот кто-то – он, Павел Баспин.
Он почувствовал себя не просто читателем. Он чувствовал себя адресатом. Спустя пятнадцать лет до него дошло письмо, написанное мертвецом.
Он листал дальше, почти не дыша. И нашел то, что искал. Последняя запись, датированная тем же июнем. Она была самой короткой и самой страшной.
«23 июня 1890 г. Доставлено тело неопознанного мальчика, на вид 12-13 лет. Выловлен из реки Ветлянки бакенщиком ниже переправы. Приметы: светлые волосы, одет в крестьянскую рубаху. Причина смерти: утопление. Признаков насилия при внешнем осмотре не обнаружено. Тело захоронено на общем кладбище как безымянное».
И в этот раз под записью не было никаких приписок. Только пустое место. Но эта пустота кричала громче любых слов. Четыре смерти за одну неделю. Три крестьянина из переселенческой артели, мешавшей кому-то своими землями, и безымянный мальчик-свидетель. Все списано на несчастные случаи. А старый доктор Запольский, видевший странные раны, предпочел промолчать, оставив лишь робкие намеки в своей амбарной книге. Он сделал свой выбор. Он выбрал молчание, чтобы выжить.
Баспин откинулся на спинку стула. Кабинет плыл перед глазами. Он держал в руках ключ. Не ко всем загадкам, нет. Но к самой главной. Нынешние убийства были не началом, а продолжением. Эхом того кровавого июня 1890 года. Кто-то мстил за тех крестьян. И мстил тем же способом. Он воспроизводил почерк убийц пятнадцатилетней давности, возвращал им их же собственное зло. «Ровное, сквозное повреждение в области шеи». Эта фраза, написанная рукой Запольского, была приговором. И для убийц из прошлого, и для их детей в настоящем.
Мировоззрение Павла Андреевича, его вера в логику и порядок, рушилось, как карточный домик. Он столкнулся не с преступлением, а с роком, с античной трагедией, разыгранной в декорациях северной тайги. Закон причины и следствия работал, но в извращенной, чудовищной форме. Посеянное пятнадцать лет назад насилие дало всходы.
Что ему делать с этим знанием? Идти к Дымову? Бессмысленно. Капитан вышвырнет его вместе с этой старой книгой, обвинив в подлоге и попытке помешать следствию. Рассказать местным властям? Они, скорее всего, сами были частью этого заговора молчания. Оставался только один человек. Человек, который, как и он, был чужаком в этом городе. Человек, которого, как и его, отстранили от дела, но который не перестал искать. Следователь Ладожский.
Он один был способен понять. Он один искал ответы не в сегодняшнем дне, а в прошлом. Их пути, до этого шедшие параллельно, должны были пересечься. Две независимые линии расследования, его – медицинское, и Ладожского – архивное, вели в одну и ту же точку. В проклятый 1890 год.
Баспин закрыл книгу. Она больше не казалась ему тяжелой. Напротив, она придала ему вес, которого ему так не хватало. Он больше не был соучастником, сломленным и напуганным. Он был хранителем знания. И его долг, не служебный, а человеческий, врачебный, состоял в том, чтобы передать это знание тому, кто сможет превратить его в оружие.
Он встал, надел пальто и взял книгу под мышку. На улице уже смеркалось. Редкие снежинки лениво кружились в свете фонарей. Город казался тихим, мирным, спящим. Но Баспин теперь знал, какие кошмары таятся под этим снежным покрывалом. Он шел быстро, почти бежал, прижимая к себе тяжелый том, как будто боялся, что кто-то вырвет его из рук, заставит его снова замолчать.
Дверь в номер Ладожского в гостинице «Северная Пальмира» была не заперта. Следователь сидел за столом при свете одинокой свечи. Он не писал. Он просто смотрел на лежащий перед ним пожелтевший листок бумаги. Его лицо в неровном, слабом свете казалось высеченным из серого камня. Он был так погружен в свои мысли, что не сразу заметил вошедшего врача.
– Следователь, – Баспин остановился на пороге, его дыхание сбилось.
Ладожский медленно поднял голову. В его глазах не было удивления, скорее, мрачное ожидание. Словно он знал, что Баспин придет.
– Доктор, – кивнул он. – Не спится?
– Я кое-что нашел, – сказал Баспин, шагнув вперед и положив на стол тяжелую книгу. Она легла рядом с тонким листком следователя. Два документа из прошлого. Два свидетеля. – В архиве моего предшественника.