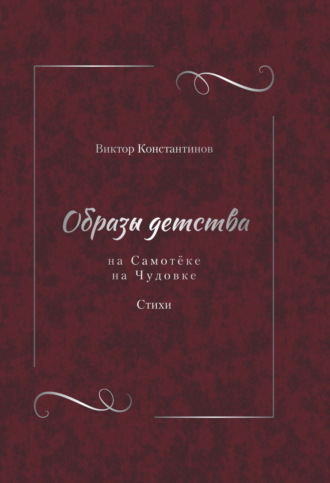
Полная версия
Образы детства: На Самотёке. На Чудовке. Стихи
Лампочек у нас не было. Тогда почти все зажигали на ёлках свечи. Для них были специальные подсвечники, крепившиеся на ветках.
В качестве игрушек вешали на нитках конфеты и орехи, завёрнутые в фольгу, но их нельзя было срывать до нового года.
Крестовину, в которую вставляли ёлку, прикрывали ватой, как снегом. Ставили под ёлку деда Мороза и подарки для нас с Ниной в коричневых бакалейных пакетах.
Наконец вечером 31-го разрешали взять из-под ёлки «подарки». Радовались, рассматривали содержимое и показывали друг другу. Это были собрания всяких вкусных вещей, каждый год разные, но совершенно одинаковые в обоих пакетах. Конечно, мандаринки, вафли, пастила, зефир, конфеты «Мишка на Северном полюсе», орехи…
Если разломить-раскусить земляной орех (слово «арахис» мы не знали), то на кончике одной из семядолей лежала маленькая рыбка с хвостиком (зародыш ростка).
Нина очень любила сладкое, таскала у мамы изюм, как я уже говорил. Мама прятала, но она всё равно находила. Нина всё содержимое пакета съедала мгновенно, а я свой «подарок» ел понемногу, не торопясь смаковал, наслаждался вкусом.
Вскоре Нина подходила ко мне и сначала, молча, хитро, смотрела мне в рот. Жую, она смотрит. Удовольствие от вкусностей у меня наполовину пропадало. Я жался, жался, но, в конце концов, она вытягивала, выпрашивала у меня: – Дай дольку… Ну, дай половинку… кусочек… орешек…
Через какое-то время опять являлась передо мной и, глядя в рот, просила:
– Ну, дай хоть маленький кусочек. Совсем маленький!..
Мы всегда, не только в Новый год, угощали маму конфетами, но она каждый раз отнекивалась: – Я не люблю конфеты.
Я верил.
Спросил маму:
– Ты кого из нас больше любишь? Меня, Нину или Валерика?
– А вот у тебя на руке пять пальчиков, какой пальчик тебе меньше дорог? Какой не жалко отрезать?
Папа иногда в шутку вместо «медведь» говорил «вед-медь», вместо «велосипед» – «лисапед».
Я его прошу о чём-нибудь, а он, будто не слышит, прикладывает ладонь к уху, как старик:
– Ась?
Я повторяю просьбу. А он:
– Ась?
– Ну, папулька!..
– Ась?
Мои вопросы становились трудными для объяснения, или о том, что рано было знать. Папа в таких случаях говорил:
– Ты ещё зелёный, не дозрел. Надо немного пожелтеть.
А Валерик:
– Отзынь! Много будешь знать – скоро состаришься!
Мама на вопросы «что это?» в шутку говорила:
– Спрос, а кто спросит – тому в нос.
Но потом объясняла.
Если я что-то не понимал, папа:
– Плохо соображаешь, не петришь. Надо мозгой шевелить!
Валерика никогда не требовалось поправлять, а нас с Ниной мама часто наставляла пословицами:
– Встречают по одёжке, а провожают по уму.
– Один раз соврёшь – в другой раз не поверят.
– Как верёвочка не вейся, а конец будет.
– Что посеешь, то и пожнёшь.
– Как потопаешь, так и полопаешь.
– «Я» – последняя буква в алфавите.
Оставалось, например, одно яблоко или пирог. Если кто-то сказал «мне», мама говорила:
– Ты думаешь в тебе душа, а в других голик?
Яблоко надо было делить.
Простуды и насморки мама лечила домашними средствами – паром от горячей картошки в мундире, горчичниками и даже банками, от которых оставались розовые круги на спине.
Приносила из кухни чугун с горячей картошкой в мундире, снимала крышку, заставляла наклониться над паром, быстро накрывала голову большим полотенцем и чем-нибудь тёплым: – Дыши!
Леченье всегда сопровождалось криками «Горячо!», «Не могу!», «Жжёт!»…
– Потерпи немного, а то будет хронический насморк, гайморит.
Если я правильно помню, появилось подозрение, что у нас с Ниной глисты. В поликлинику на углу Петровского бульвара и Каретного ряда мама меня водила только один раз, по Цветному и Петровскому бульварам.
Мы долго томились в коридоре в очереди, и я всё в нём хорошо рассмотрел – на столике весы с закрулёнными краями для младенцев, плакаты со страшными существами микробами. Понравились поворачивающиеся колонки с яркими картинками на стёклах, подсвеченных изнутри.
Врач посоветовала от глистов есть тыквенные семечки.
Обратно мы шли другой дорогой по Большому Каретному мимо автобазы милиции. Около высокой глухой стены стоял чёрного цвета грузовик-фургон. Мама со страхом в голосе тихонько сказала: – Эта машина называется «Чёрный ворон»!
Её голос внушил и мне страх, я не стал расспрашивать почему «Чёрный ворон»?
В то время ещё ходили слухи о врачах-вредителях.
Соседи
В нашей квартире на шестом этаже, на «чердаке», в длинном полутёмном коридоре было пять дверей в комнаты. Коридор такой длинный, по нему можно было кататься на велосипеде. Каталась на трёхколёсном велосипеде Люся, моя ровесница. И мне давала покататься.
Наша комната центральная. В комнате справа жила Люся и её родители Пилипчуки.
Пилипчук, здоровенный мужик, видимо, был военным. В форме я его никогда не видел, только в галифе с тапочками и в майке-футболке из комплекта нижнего белья. Он работал по ночам, днём спал. Думаю, он был охранником в звании сержанта в какой-нибудь тюрьме, судя по его грубым манерам и солдатским шуткам.
Мы с Люсей часто играли у них в комнате, залезали под стол, как будто в домик. Однажды Пилипчук сел за стол выпить кружку молока. Я высунул голову из-под стола, чтобы вылезти, он для забавы ливанул молоко мне за шиворот и засмеялся от того, что я вскрикнул и вскочил.
Жена «Пелепчучка» тоже крупная женщина, наглая и скандальная, типа мадам Грицацуевой – «на-кася выкуси!». Случалось, она и мама ругались. В одну из таких ссор Пилипчучка толкнула маму, а мама, поскольку была намного слабей, укусила ту за палец. «Выкусила».
Пилипчуки не платили за общее электричество. Соседи их не любили, но в ссоры не вступали.
В комнате за Пилипчуками жила бездетная пара интеллигентов-инженеров, очень скромных – тётя Лиза и её седой муж. В коридоре и на кухне их не было ни видно, ни слышно. У них был первый бытовой телевизор, совмещённый с радиоприёмником, «Ленинград» с маленьким экраном. Иногда они приглашали нас с Ниной и мамой смотреть интересные передачи, кино. Первая передача, которую я смотрел по телевизору, была постановка «Свадьба в Малиновке».
Тётя Лиза хорошо вышивала гладью и крестиками и научила маму. У неё было много ярких вышивок на подушках и в рамках. Приятно было гладить шёлковые листья и лепестки, вышитые разноцветными нитками «гладью». Нитки назывались красивым словом мулине.
Около двери инженеров коридор сворачивал направо в кухню, куда я заходил за все годы только несколько раз. Тёмная, тесная, с закопченным потолком она не привлекала. По стенам стояли две газовые грязные плиты и кухонные маленькие столы жильцов с висящими над ними самодельными посудниками. Ещё висел большой газовый счётчик и рядом пачка наткнутых на гвоздь жировок. Всё было засижено мухами.
В немытое окно почти ничего нельзя было разглядеть. Зимой внизу рамы нарастал толстый слой льда.
В соседней комнате слева от нашей жила странная молодая женщина тётя Варя с несколькими кошками. Она почему-то никогда не ходила в баню, пользовалась только одеколоном. Её комната, все вещи, кошки имели неприятный запах затхлости. Ириски, которыми она угощала, тоже пахли тошнотворно, я их не ел.
В торце за комнатой тёти Вари размещалась тётя Элла, толстая, рыхлая, почти квадратная, всегда в длинном чёрном платье. Она была инвалидом, у неё болели ноги, едва ходила и почти всё время сидела в своей комнате. Продукты ей приносила мама.
Тётя Элла была дочерью «канальского» генерала Раппопорта, иногда навещавшего её, но я его не видел.
Иногда тётя Элла приглашала к себе в гости квартирных детей, т. е. нас с сестрой и Люсю, чтобы угостить пирожными и шоколадными конфетами.
Она всегда сидела в кресле около стола с белой скатертью. Комната её была богато обставлена картинами, статуэтками и китайскими вазами.
На столе блистала большая хрустальная ваза. Тётя Элла разрешала легонько постучать по краю вазы длинным карандашиком. Ваза издавала чудесный звон, долго не затихавший.
Перед дверью тёти Эллы, коридор сворачивал налево к туалету и ванной комнате – тоже тёмной, влажной да ещё и холодной, с оцинкованными волнистыми стиральными досками и корытами по стенам, с висящим на протянутых верёвках сырым бельём.
Около белой эмалированной ванны, висела газовая колонка. Не знаю, вообще мылись ли в ванне или только пользовались для полоскания белья? Тогда принято было постельное бельё кипятить в оцинкованном баке, синить и крахмалить.
Валерик как-то принёс в трёхлитровой банке довольно большую рыбку. Каждый день её выпускали поплавать в ванне, но она прожила недолго.
В середине 80-ых, когда прошло лет 30 после переезда с Самотёки, я захотел побывать на «чердаке».
С замиранием сердца зашёл в наш центральный 4-ый подъезд. Та же лестница, то же деревянное фигурное покрытие перил, по которым можно съехать задом наперёд, не слезая, с 6-го этажа до 1-го.
Наша дверь с номером 71. Дверь открыла черноволосая кудрявая девушка-женщина в халатике, типа Пилипчук. Подумал – неужели Люся? Объяснил, кто я.
Это, действительно, была Люся. Она меня не пригласила войти. Видимо, ей было неудобно пригласить в этот момент. Только поговорив немного, когда я уже спускался по лестнице, она сказала: – Заходите как-нибудь.
Не захотел.
В холодный день поздней осенью один гулял во дворе, больше никого не было. Походил, походил, нашёл железный прут и надумал его зачем-то согнуть, но руками – сил не хватило. Как согнуть?
Надумал подсунуть один конец прута под край стола, стоявшего около песочницы, середину прута наложил на спинку скамейки, а на второй конец стал сильно давить вниз. Давил, давил… вдруг конец прута вырвался из-под стола, перевернулся и бац – мне в бровь. Чудом не в глаз. Заорал, побежал домой.
Мама сказала, что крови вытекла целая кружка. Я крови не видел, но представил себе зелёную эмалированную кружку полную до краёв.
Мама рассказывала – ещё до этого случая какая-то девочка в песочнице разбила мне лопаткой губу, но я это совсем не помню, маленький был.
Сначала в баню меня с собой водила мама, в женскую. Мама окатывала скамейку из шайки и мыла меня тоже из шайки, а я сидел и смотрел. В тусклом свете, среди клубов пара, как в тумане, ходили и сидели на скамейках голые тёти с шайками. Баня удивляла меня непонятно откуда берущимся шумом в ушах. Заткнёшь уши пальцами – тихо, откроешь – шумит.
Потом мы обмывались под душем.
Наконец – нас с мамой и в самом деле чуть ни закидали шайками. Какая-то тётя заругалась на маму, что она привела в баню такого большого мальчика, и он разглядывает голых женщин.
С тех пор я ходил в баню с папой, а он с маленьким чемоданчиком. (Потом в этом чемоданчике хранили ёлочные игрушки.)
Зимой мы всегда возвращались из бани, когда было уже темно. Идём по тёмным заснеженным переулкам чистые, сонные, я только глазами хлопаю.
Во 2-ом Троицком над входом в каменный дом яркая красная вывеска с белыми буквами «АГИТПУНКТ». Весь красный прямоугольник окружён пунктиром горящих лампочек.
Я всегда боялся проходить через тёмную подворотню. Лестница в подъезде тоже едва освещалась. На площадке второго этажа у меня не было сил идти выше. Папа говорил:
– Ну, залезай ко мне на закорки.
Он приседал, я сзади обхватывал его шею, он подхватывал меня под коленки, и я ехал на нём до шестого этажа.
Дома нам говорили – С лёгким паром!
Красота
Дядя Коля с женой тётей Люсей жили там, где и папа с мамой жили до войны – в полуподвале Красного дома, в комнате с окном под потолком. Они познакомились на Ленинградском фронте.
Иногда тётя Люся, увидев меня во дворе, звала к себе в комнату, чтобы угостить чем-нибудь.
Я долго не понимал значение слов «красиво», «красивое», смотрел на то, о чём так говорят, и не видел ничего особенного, отличного от всего остального. Но у тёти Люси увидел в вазочке на этажерке букет сухих, тонко раскрашенных в разные цвета, нежных метёлок ковыля, радужный фонтан. Модное украшение домов.
Заметив, как у меня загорелись глаза, тётя Люся разрешила потрогать почти не осязаемые метёлки, погладить по щеке. И меня осенило – я понял, что значит слово «красиво». Разноцветные метёлки красивые!
На Украине
К «Жене Фёдоровой» приехала знакомая с Украины, но муж не пустил её ночевать, и тётя Паша, дня два пожила у нас. Кажется, она приехала в Москву за мандаринами!
Угощала нас такими огромными яблоками, каких я больше никогда не видел – размером с блюдце. Пригласила к себе летом в Ромны Сумской области.
Летом мы всей семьёй поехали на Украину, папа – только проводить. В Бахмаче делали пересадку, сидели на платформе на чемоданах, ждали поезд. В Ромны приехали ночью… голоса из темноты… фары грузовиков…
Вошли в хату тёти Паши, удивляясь гладкому земляному полу. Она накормила нас вкусными домашними колбасками. Кое-как переночевали, а утром пошли устраиваться в село.
Спали в саду на веранде, по утрам просыпались освещённые ярким солнцем, «…как только в раннем детстве спят.»
Рядом с верандой стояла яблоня, усыпанная небольшими яблоками. Хозяева разрешили есть яблоки этой яблони, сколько хотим, с условием не есть с других яблонь, на которых росли крупные яблоки.
Сад располагался на склоне. Вниз спускалась тропинка до небольшой речки шириной не больше метров трёх и глубиной мне по шейку.
Перед домом вдоль улицы расстилалась широкая зелёная лужайка с колодцем в одном конце и высокой шелковицей в другом.
Дядя Стёпа голый по пояс, с мощными бицепсами крутился на турнике, поднимал двухпудовые гири.
Его жена, наша молодая хозяйка, разговаривая с мамой и другой женщиной около калитки, кормила грудью младенца. Я видел, как он оторвался от груди, и тонкая молочная струйка брызнула на траву.
– Вот что делает! – улыбнулась кормилица.
Откуда-то появился дядя в клетчатой рубашке и мальчик. Они бежали по лужайке, а за ними взлетал воздушный змей. Змей поднимался выше и выше. Я побежал за ними смотреть на змея.
Когда возвращался по траве, то босой ногой наступил на шмеля, и он больно меня укусил. Побежал к маме, хромая и плача.
Валерик рисовал в альбоме акварельными красками. Мама на крыльце стирала, пена поднималась выше края корыта.
А мы с Ниной вышли на улицу, прошли по тропинке, свернули на другую, широкую, улицу, спускающуюся к реке Суле. Пошагали по тропинке вниз мимо заросших травой и увитых вьюнками плетней и заборов. Срывали розовые цветы, которые называли мыльниками потому, что, если их размять, они и, правда, мылятся, как мыло.
На зелёном берегу реки несколько человек загорали и купались. Мы с Ниной страшно боялись русалок и ещё какого-то тонкого «конского волоса», впивающегося в тело. Но всё-таки залезли в воду.
Валерик нарисовал косца на лугу в белой рубашке и с косой, но потом, оказалось, нарисовал косу неправильно. Косец у него махал косой в другую сторону.
Мы с Ниной ходили через поле колосьев туда, где иногда проезжал паровоз. Там увидели одноколейную железную дорогу, разогретую солнцем и очень вкусно пахнущую!
На «нашей» улице на углу чьей-то ограды обнаружили вишню, выставившую ветки над оградой. На ветке несколько тёмно-бардовых ягод. Как не соблазниться? Вскарабкались по забору, сорвать ягоды. На стволе дерева светились застывшие янтарные капли, сгустки смолы, на вид, как ягоды, очень вкусные. Дотянулись и в рот.
Тепло и солнце разливались вокруг.
Вдруг вдоль улицы крики, наполнившие ужасом:
– Тикайты, тикайты. Бешеная собака, бешеная собака!
До нашей калитки далеко, куда спрятаться?
Перебежали на другую сторону к большим деревьям и залезли на нижние ветви. По тропинке, на которой мы только что были, вдоль заборов трусцой бежала рыжая собака с высунутым языком, крутила головой, скалилась. С языка капала густая слюна.
К нашему великому облегчению собака пробежала по тропинке дальше в другой конец села.
Я забрёл на небольшое круглое озеро. На берегах кое-где сидели мальчишки с удочками.
Слева рядом, стоя, ловили рыбу покупными длинными удочками, два парня явно городских, в синих спортивных штанах и белых спортивных шапочках с длинными козырьками. Явно приезжие.
Вдруг к ним, ругаясь, подбежал местный дядька, за дядькой маленький мальчишка, сын, которого обидели приезжие.
– А ну, сматывай удочки и бежи отсюда! – кричал дядька парням.
Те начали отругиваться, крик, перебранка. Разъярённый дядька выхватил из рук бамбуковые удочки и в миг через колено изломал их в куски.
Парни нехотя, с обломками, побрели по берегу, огрызаясь на ходу.
Так я понял, что значит выражение «сматывай удочки».
На Украине продавался, не помню, «Чай в плитках» или «Плиточный чай», толстые плитки очень вкусные, мы их просто кусали и ели. Может быть, это были прессованные сухофрукты.
За две недели до отъезда приехал папа. Как раз созрели ягоды шелковицы. Всё дерево было усыпано тёмнокрасными и чёрно-синими осыпающимися ягодами. Кажется, кроме нас их никто не ел. Мы, конечно, привели папу к шелковице наесться ягодами.
Через какое-то время, папа обнаружил, что пальцы испачканы чернилами. Удивился, не мог понять, как и где испачкал?
– Странно! Ничего не писал, а руки почему-то в чернилах?
Не знал, что чёрные ягоды шелковицы красятся.
Мы повели его в низ сада, он купался в речьке, ему было выше пояса, и он переходил на другой берег, на зелёный бугор.
Папа умел плести корзины. Заросли лозы он нашёл на берегу Сулы и ходил туда в своей солдатской гимнастёрке. Один раз взял меня с собой. Пришли, он вытащил из кустов недоплетённую корзину, нарезал перочинным ножиком прутья и сел на траву, скрестив ноги – плести. Я вертелся вокруг. Обнаружил норку земляных муравьёв, взял, лежавший около папы без дела ножик и стал ковырять им муравьиную норку.
Ковырял, ковырял… раз – и у меня в руке осталась только ручка со штопором. Мне было очень жаль, я чуть ни расплакался.
Папа огорчился, но не заругался, сказал только:
– Эх!..
Папа решил на автобусе съездить в город и взял меня. Мы гуляли по аллеям тенистого парка, вышли к футбольному полю, окружённому высокими каштанами, и шли под густыми кронами. На поле бегали футболисты в красной и синей форме. Вдруг мяч выкатился с футбольного поля и чуть-чуть не попал в меня. Папа поднял его и кинул подбежавшему футболисту.
Когда думаю об Украине, представляется лунная ночь с русалками и белыми хатами. Наверно это от искусства, Гоголя, Куинджи, Шевченко…
«…сад вишневый коло хаты…»
Чердак настоящий
Тёмным осеним ветреным вечером комната на Самотёке. Тревожное состояние буквально ощущалось в воздухе. Я смотрел в окно, над тёмным двором раскачивались фонари-шляпки. Под ними беспокойно качались световые круги. В чёрном пальто на асфальте лежал человек. Из подъезда выбежала мама:
– Ваня!..
У папы случился, как говорила мама, «припадок», следствие ранения в голову. Мама тащила папу, словно пьяного, на 6-ой этаж. Папа бормотал что-то невнятное.
С мамой мы приехали в госпиталь навестить папу.
Солнце, весна. В парке молодые деревья, дорожки. На дорожках много дядей-фронтовиков в полосатых пижамах, некоторые на костылях. Один ехал в коляске с ручным приводом – длинной ручкой-рулём.
Мы встретили папу в пижаме, но не стали гулять. Папа торопился в палату слушать последние известия и взял меня с собой, а мама осталась на улице.
В палате никого не было, как только вошли, папа подсел к столу, взял чёрный наушник и стал слушать. Недавно началась война в Корее. Я ничего не делал, смотрел на папу, радовался и больше ничего не хотел.
В нашем коридоре на «Чердаке» кроме входной двери в квартиру и дверей в комнаты была ещё одна дверь – железная. Она вела на настоящий чердак под крышей и не запиралась на замок. На чердаке сушили бельё, постельное в основном. Сохнувшее на холоде оно приятно пахло свежестью, мама это очень любила.
Летом мы, дети, иногда забирались на чердак. Летом, то есть поздней весной и ранней осенью потому, что всё лето каждый год мы, дети, проводили за городом. Полутёмный чердак, если бы мы читали Библию, сравнивали бы с чревом кита, в котором оказался Иона, а толстенные брёвна-балки и стропила – с его рёбрами.
Через слуховое окно мы вылезали на односкатную железную красно-коричневую крышу – тёплую, погромыхивающую. Крыша не крутая, но пробирались по ней, согнувшись. Встать в полный рост страшно – коленки подгибались, не за что ухватиться – вокруг только небо. Нижний край крыши ограждала хилая загородка из тонких хлипких железяк, туда не подходили. На самый верх карабкались на четвереньках.
Верхний край огораживал только невысокий бортик ниже моих колен. Перед бортиком оборачивались и садились на крышу. Какой просторный вид открывался перед нами над Лаврскими переулками. До самого горизонта крыши, крыши и кое-где верхние окна домов. Слева кусочек Самотёчного бульвара, Уголок Дурова. Правей за огромной площадью звезда театра Красной Армии с башенкой и флагом над ней.
Мы сидели на крыше, словно на летящем ковре-самолёте.
Я разворачивался и с замирающим сердцем ложился грудью на бортик края крыши, высовывая голову во двор. Это страшно, кажется, что голова может перевесить всё тело, и потянет вниз. Зато виден весь двор, его план с центральным проездом, квадратами газонов и проходами к подъездам правого и левого крыльев. Из окна тоже виден почти весь двор, но не то ощущение.
О наших вылазках на крышу Нина, спустя много лет, написала высокое стихотворение:
Стыдились чистой бедности своей,и мама над иглой лицо склоняла,чтоб мы других не хуже, не бедней,всё билась и старье перешивала.И двери, двери – коридор тех летиз всех примет – лишь бережливый свет —гонять здесь можно на велосипеде…И только вот – велосипеда нет(и к лучшему – не злобились соседи).Из коридора – дверь, за ней чердак —мы с братом пробираемся на крышу!И наш испуг – внезапной мышью.Не бойся, говорю, полезли выше.О ветер,платье плещется как флаг!А лужа – там внизу – как незабудка,и мы не узнаем знакомых мест…Все крыши – ниже, весело и жутко,и вровень только – искривлённый крест.Я своей «бедности» не стыдился, поскольку не знал, что это такое. А крест – на сохранившейся при большевиках стоящей рядом церкви Святой Троицы.
Иногда мне снились сны, как я машу руками, словно крыльями, и летаю в пространстве нашего двора над асфальтом, над газонами. Иногда, спасаясь от кого-то, взлетаю выше, выше.
Потом, может быть даже в другой квартире, мне три раза снился один и тот же сон. Я высовываюсь за край крыши во двор, голова перетягивает, я сползаю за бортик и падаю вниз. Перед самой землёй просыпаюсь от страха с облегчением, что это сон.
Свежее майское утро перед жарким днём. Асфальт во дворе тёмный, мокрый – уже полит из шланга дворником в белом фартуке.
Сегодня особый день, торжественный. Валерик сдаёт экзамен в школе. Он подложил под пятку пятак для везения. Мы сказали ему:
– Ни пуха, ни пера!
Смотрим в открытое окно, как он в белой рубашке идёт через двор, в конце двора оборачивается и машет нам рукой.
Брат Валерик был умным и не по летам серьёзным мальчиком. Я узнал его, когда ему было лет десять-одиннадцать. Несколькими годами позже мама спросила его:
– Кем ты хочешь стать?
Он был отличником, и ответил:
– Хочу стать профессором.
Не уточнил, каких наук, не важно. Это выглядело смешно в устах подростка, но и указывало на стремление к знаниям, науке, учёности.
Нет никакого сомнения, что стал бы…
В нашей средней части дома было два полуподвала, справа хранились вещи коммунальной службы, а слева жила пожилая сухощавая, как будто высушенная как вобла, тётя Мотя. Она работала уборщицей и приходила к маме поговорить, посплетничать. Мама в это время всегда шила или вязала и только поддакивала тёте Моте. Так она общалась и с другими незваными гостями.
Тётя Мотя как-то странно произносила слова. Словно камешки во рту мешали словам выйти изо рта. Повзрослев и услышав говоривших по-русски молдаван, понял, что, видимо, тётя Мотя была молдаванкой.
В речах гостей встречались непонятные слова: аферист, агент (ударение на первом слоге), управдом, комендант, монтёр (так называли электриков), в детстве такая куколка была, а выросла…и что стало?


