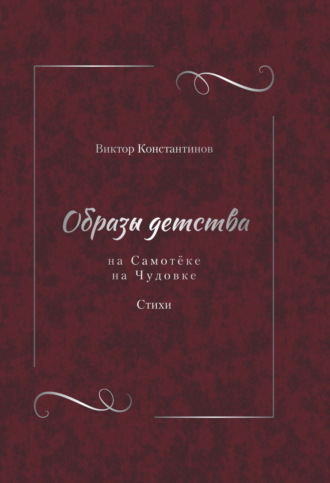
Полная версия
Образы детства: На Самотёке. На Чудовке. Стихи
Или: – Для глухих десять обеден не служат.
– Мам мне половинку.
– Ты что – половинкин сын? – спрашивал папа.
И добавлял в таких случаях:
– Наливай полную, чтоб жена была не губастая!
То же самое он говорил, когда наливали рюмки.
Если я или сестра отказывались есть не вкусное, какую-нибудь кашу, щи, мама сердилась:
– Ешь, что дают!
Папа добавлял:
– Губы толще – так в брюхе тоньше!
И:
– Что губы надула?
Если наоборот, кто-то никак не насытится и просит раз и два добавки мама смеётся:
– Едун напал. Не жалко, ешь до укаки!
Нередко покупали мясо кроликов. Я просил, и мне всегда давали кусочек с косточкой в виде вилки, точней в виде буквы V. Вряд ли эту косточку связывали с моим именем, но мне она почему-то нравилась.
Мы жили не богато, скромно, «не шиковали», но денег не занимали, необходимое всегда было, «жили по средствам». «Вкусненькое» нам папа покупал с получки, себе – в рыбном магазине несколько тонких ломтиков сёмги.
Мама лучшее отдавала детям, экономя на себе. Масло на хлеб намазывала так тонко, что была видна структура хлеба на срезе, а то и намазывала масло, а потом соскабливала. На ломтике получался узор из белых пустот, заполненных маслом и разделяющих их стенок.
Я любил белый хлеб кирпичиком, таким же, как чёрный, хотя он был и не высшего сорта. Ещё были батоны и иногда «плетёное» хало.
Когда в доме кончался сахар или ещё какой-нибудь продукт, мама в шутку говорила: – Дожили до куки, нет ни хлеба, ни муки.
Если роняли на пол конфету, печенье…: – Не повалявши, не поешь. А папа: – Росомаха!
Конфеты были: Золотой ключик, Снежок, Раковая шейка, леденцы Монпансье в металлической коробке. В кульках без обёртки – «подушечки» розовые и белые.
Если отказывались брать подарок, мама:
– Дают – бери, а бьют – беги.
Папа:
– Нечего хвост подымать!
Когда я или Нина просили купить что-то такое, что родители не могли себе позволить, мама объясняла, приговаривая:
– По одёжке протягивай ножки.
Мы с сестрой и капризничали, и упрямились.
Папа: – Вожжа под хвост попала.
Мама: – Хватит надо мной мудровать!
Что творил я в то время, честно, не помню. Спать не хотел ложиться. А Нина совсем маленькой ранней весной додумалась встать в заячьей шубе под водосточную трубу. Эта шуба потом перешла ко мне.
Если говорили или делали что-то несуразное, спрашивали: – Тебе что – моча в голову ударила?
Или: – Не скажи в бане – шайками закидают.
Я, всё воспринимавший буквально, представлял, как в пару голые дяди кидают друг в друга шайки.
Папа читал мне книжку «Как муравьишка домой спешил». Солнце уже склонялось низко… Я очень переживал за муравьишку. Ещё была сказка про лягушку-путешественницу.
В каком-то рассказе вечерний крик то ли перепёлки, то ли выпи «фьють-пери» переводился на человеческий язык как «спать пора!». После этого рассказа, когда приходило время ложиться спать, папа мне сигналил: – «Фьють-пери, фьють-пери! Спать пора!»
Читали мне замечательную познавательную книжку для детей с картинками «Алёша-Почемучка». Он всех спрашивал – почему то, почему это… – про всё на свете. Взрослые Алёше рассказывали и объясняли. Картинки показывали. Вскоре и меня стали называть Почемучкой.
Папа покупал разные развивающие игрушки. Набор кубиков с деталями шести разных картинок на боках, их нужно было составлять. Ещё то, что теперь называют пазлами, но более простые, из крупных деталей. Ещё что-то вроде картонного лото, в котором вместо цифр были картинки зверей, птиц и рыб. Мне почему-то понравился и запомнился розовый скворец.
Старшему брату Валерику папа подарил конструктор из разных металлических пластинок, уголков, колёсиков и других деталей для сборки с помощью винтов и гаек трактора, грузовика, крана… Не все винты подходили к каждой гайке, и каждая гайка не подходила ко всем винтам, надо было подбирать. Несколько уголков от этого конструктора у меня ещё сохранились.
По радио часто звучала песня для подростков:
Если хочешь быть здоров, закаляйся.Позабудь про докторов, обливайся…Валерик, закалялся, обтирался мокрым полотенцем, делал зарядку, старался позабыть про докторов, но не мог – он был «сердечник», с пороком сердца… Один раз, мне было 3 или 4 года, мама взяла меня с собой в больницу к Валерику. Больница была далеко, в Текстильщиках. Долго ехали в автобусе, окно было заморожено. Мама разговаривала с какой-то женщиной, сидевшей рядом. Я не понимал, о чём они говорят, но почему-то запомнилось повторявшееся слово «хлопотать»: – …хлопотала… надо хлопотать… хлопотать…
Помню только картинку – мы с мамой стоим в сквере больницы и машем Валерику в окно 3-го этажа.
На обратном пути мама разговаривала в автобусе с другой женщиной о болезнях своих детей, и та сказала, что детям, лежащим в больнице, покупают заводные танки – они могут ездить по разглаженной простыне.
Из больницы Валерик вернулся со своим танком. Танк жужжал и сыпал искрами из пулемёта. Я подставлял палец под искры, они не обжигали. Говорили – это холодный огонь.
В дождливую погоду все мужчины и дети надевали чёрные галоши, красные внутри. Женщины – боты, а зимой многие девочки и женщины вместо варежек грели руки в муфтах на верёвочках.
В холодную погоду все носили пальто, зимние и «демисезонные», никаких тёплых курток не было. Мужчины зимой все в шапках-ушанках, в другое время – интеллигенция, в основном, в шляпах, люди попроще и подростки в кепках, люди искусства с претензией в беретах.
Магазины в Москве были наполнены продуктами, но, вероятно, кроме муки. Только денег у людей было мало и магазинов мало, за всем приходилось стоять в очередях.
Муку продавали по три килограмма на человека перед праздниками – все пекли пироги и свой хлеб. За мукой стояли уже не очереди, а толкающиеся толпы. Очередь занимали с вечера или с ночи, писали химическим карандашом номерки на ладонях.
Один раз мама взяла меня совсем маленького в качестве «человека». На задворках магазина между кинотеатром Экспресс и Центральным рынком муку выдавали через маленькое квадратное отверстие, вокруг толпа, шум, гам. Мне тоже написали номер синим химическим карандашом. Я держал его зажав ладонь, боялся стереть, смазать, потерять.
Когда очередь подошла, мама сунула меня в окошко в подтверждение наличия «человека».
Брат и сестра готовили уроки на общем столе, другого не было. Подстилали газету, чтобы не пачкать клеёнку чернилами – писали перьевыми ручками, макая то и дело в белую фарфоровую чернильницу-непроливашку. Чернила часто капали с перьев и ставили кляксы в тетрадях и на чернильнице. Белоснежная непроливашка через какое-то время становилась привычно чумазой грязнулей. Иногда её оттирали, и на неё, чистую, неприятно было смотреть, она казалась лысой. А кто-то сказал – босой.
Кляксы в тетрадях накрывали промокашками, от чего они часто увеличивались, превращаясь из круглых в произвольные фигуры.
У нас в семье, если кто-то делал уроки, остальные не мешали, не шумели, даже не разговаривали. Этот закон внимательности к другим, уважение читающего, думающего, спящего… стали привычкой, сохранившейся навсегда.
Чтобы занять меня, мне давали какую-нибудь книгу с картинками. Например, книгу стихов Маяковского с фотографиями красноармейцев в белёсых гимнастёрках, в строю, на крышах вагонов… На полях нарисованные маленькие чёрные человечки с винтовками, бегали туда-сюда, как муравьи.
Рисунки в тогдашних детских книжках мне нравятся и сейчас – простодушные, чёрно-белые, тёплые, добрые… У нас была большая толстая книга Андерсена со сказочным домом под высокой изогнутой крышей на обложке. Внутри был рисунок – на окне из маленьких квадратных стёкол стоит горшок с вьющимся горохом. Оттуда, наверно, моя привязанность к цветам на подоконниках.
У нас был установлен разумный распорядок дня. Валерик даже написал на листке расписание – когда вставать, когда обедать, делать уроки, гулять, читать, ложиться спать (мне в девять, старшим в десять).
В нашей семье сохранялись табу, правила и приметы, привезённые родителями из деревни, из глубин крестьянских поколений.
В гостях никогда не ели, ни пили по первому приглашению. Сначала надо было обязательно отказываться, медлить. Хапать не принято. Повзрослев, я долго не мог отвыкнуть от привычки церемониться даже с друзьями.
Вставать утром надо с правой ноги, иначе – «не с той ноги встал», с плохим настроением. Надо же, так хранилось понимание левого и правого, добра и зла.
Дома нельзя свистеть, денег не будет.
Нельзя спать, когда закатывается солнышко – голова заболит.
Нельзя много смеяться, после смеха всегда слёзы. «Смешинка в рот попала?». «Смотри, как бы после не заплакать». «Смех без причины – признак дурачины». Я смеялся, по выражению папы, до упада. А мама говорила:
– Тебе покажи пальчик – засмеёшься!
У меня в смехе выражалась и выражается радость от необычного слова, действия. Бывало это не понимали и обижались, думая, что смеюсь над ними.
Нельзя хвастать, «Хвастливое слово всегда гнило».
Нельзя класть на стол ложку выемкой вверх, «Ложка есть просит».
Наденешь майку или чулок наизнанку – будешь бит.
Что-то потерялось – это шишига украла. «Шишига-Шишига, поиграла и отдай!»
Из бани пришли – «С лёгким паром!».
Мама надевает пальто.
– Мам, ты куда идёшь?
Мама очень сердилась на такие вопросы:
– Заку дакал!.. За кудыкину гору!
Нельзя спрашивать, куда идёшь, а то не повезёт.
Чтобы повезло человеку, например, на экзамене, надо его в это время ругать.
Отправляясь на экзамен, клали под пятку пятак. В те времена школьники сдавали экзамены каждый год.
Раньше эти предосторожности называли оберегами, теперь – психозащитой.
Когда я допекал старшего брата, он говорил: – Отзынь! Или давал лёгкий щелбан. А то и предупреждал: – Дам по шеям!
Или вправду слегка давал ребром ладони по шее.
В семье возникли разговоры о том, что Валерик будет показывать домашний театр. Он тайком резал ножницами бумагу, картон, что-то клеил. Я не знал, что такое театр, и ждал с нетерпением.
И вот через несколько дней вечером «театр» состоялся. Зрители – я, Нина, мама и папа сели в два ряда на стулья.
Лампа под абажуром погасла. Сцену освящала настольная лампа, и действие началось. Валерик рассказывал и показывал сказку про хитрую лису.
Старик крестьянин поехал на санях через лес ловить рыбу. Лошадь бежала быстро, на фоне замелькавших елок, усыпанных снегом. Сани со стариком действительно двигались, ехали по дороге!..
Приехал старик, остановился и стал ловить рыбу, и началось: – Ловись, рыбка, большая и маленькая… Старик возвращался с рыбой домой, и опять замелькали ёлки, только в другую сторону. Впечатление движения лошадки с санями было поразительным.
Потом, появились лиса, старуха, волк…
Как только сказка кончилась, я сразу стал выяснять, почему сани казались едущими, лиса и волк бегущими.
Валерик показал длинную полосу бумаги с нарисованными деревьями и как он её тянул за стоящими санями. Эффект обманчивого движения был удивителен! Я сам тянул полосу с ёлками – лошадь бежала, переставал тянуть – лошадь останавливалась.
Тогда я думал, что Валерик всё рисовал сам, но, догадываюсь, это папа купил напечатанный полуфабрикат. Валерик только вырезал и клеил.
Москва
Первый раз в переулок за подворотню меня вывела Нина кататься с ледяной горки. От подворотни повернули направо – вдоль церковной ограды, и ещё раз направо в другой переулок к церкви.
Тут из-под самой кирпичной стены очень круто спускалась чёрная ледяная лента. Дети вылетали, кто на фанерках, кто на картонках, кто на попе прямо на мостовую поперёк переулка. Благо, машин тогда было мало, проезжали редко.
Я долго стоял наверху, боялся скатиться, с большим трудом преодолел страх. На этой горке при спуске перехватывало дыхание, оно поднималось от живота к подбородку.
Иногда после работы папа катал меня на санках по переулку. Зимний тёмный вечер весь в огнях фонарей и горящих окон. Передо мной папина тёмная спина в пальто, справа и слева, много мелькающих теней и тёмных людей, идущих с работы.
Зимой на московских тротуарах много коротких ледяных дорожек, катков, неизвестно как появлявшихся и раскатанных детьми. Когда я шёл по улице между папой и мамой, они поднимали меня за руки и прокатывали по каткам. Сам ещё не умел разбежаться и прокатиться, хотя во всех других случаях всегда кричал «Сам! Сам!».
Если мы ехали в метро, то в каком-то месте папа говорил:
– Сейчас мы поедем прямо под Москвой-рекой!
– Когда? Ну, когда?
– Подожди чуть-чуть… Вот сейчас!
(Это между станциями Парк культуры и Октябрьской, ещё между Павелецкой и Таганской)
Иногда по воскресеньям папа ходил со мной гулять.
Однажды я папу невольно выдал. Мы пришли на Цветной бульвар, к цирку. На углу в палатке папа купил мне вафельную трубочку с кремом. Я и сейчас могу почувствовать её вкус, слышать хруст вафли.
Дома мама спросила меня:
– Ну, где вы были, куда ходили?
– Ходили на Самотёку.
– А что делали?
– Я ел трубочку…
– А папа?
– А папа пил белую водичку.
Мама посмотрела на папу – папа смутился. Мама умно ничего не сказала.
Тогда прямо на улице можно было выпить стопку водки. Такой эпизод есть в фильме «Сын», и, кстати, происходит около цирка.
В другой раз, не помню как, мы оказались на Пушкинской площади. Солнечный день, высокие серые здания по сторонам сквера. Одной рукой я держался за папину руку, другой – тащил за собой на нитке новенький деревянный пароход, подарок на день рождения. Пароход бело-красный, длинный, дребезжал не на колёсах, а на шариках скрытых в углублениях плоского дна.
Папа показал ряд разноцветных фонтанов. Вид фонтанов необыкновенный, они похожи на букеты зелёного, розового, жёлтого и голубого цвета. На мой вопрос «Почему…» Папа объяснил, что вода снизу подсвечена разноцветными фонарями.
Я лёг на гладкий каменный бортик, спустил пароход в воду и чуть-чуть сам не сполз в фонтан.
Папа показал мне дом, где он работает, я спросил, что он делает на работе?
– Вот строят такой дом, а я считаю, сколько надо для него кирпичиков, досточек, балочек…
Зимой папа привёз меня кататься на горке около Кремля. В Александровском саду там, где сейчас могила неизвестного солдата, стояла очень высокая деревянная горка с очень длинным ледяным накатом. В те времена с ледяных горок катались просто на пятой точке.
С рождения слышал слово «Москва-река»… «Москва-река»…
Мне слышалось «Москварика», и я думал, что река так и называется – Москварика.
Папа пообещал показать мне ледоход на Москварике. Тогда она не была перегорожена шлюзами, и происходили ледоходы.
Месяца два я надоедал папе – когда будет ледоход? Скоро! Ну, когда будет ледоход, скоро? А лёд, как он говорил, стоит и стоит. Подожди ещё немного…
И вот, наконец, мы стоим на Большом Каменном мосту над рекой, вся она разбита на двигающиеся с шумом и треском белые куски льдин, похожих на облака. Мы смотрим вниз, и кажется, что не льдины всей массой уходят под мост, а мост двигается вперёд, как ледокол. Льдины задевают за гранитный берег, наползают одна на другую, трутся краями, поднимают зеленоватые рёбра, ныряют под другие льдины, разбиваются, крутятся… На некоторых льдинах плывут палки, обломки досок, коряги, вороны… Голова начинает кружиться от этого всеобщего движения. Но и оторваться невозможно.
Папа едва уговорил меня поехать домой.
По дороге в зоопарк (или зоосад, не помню, как его называли) папа купил мне маленький чёрный мячик. Он мне так понравился, что я, как в басне, не заметил никаких зверей. Подкидывал и ловил мячик.
На аллее между высокими сетчатыми оградами так подкинул, что мячик перелетел через ограду. Тут я и увидел за оградой жирафа. Мячик лежал за сеткой совсем рядом, но достать его мы не могли. Я заревел. Папа успокоил меня, только сказав, что завтра пойдёт к директору зоопарка, и мячик отдадут. А сегодня выходной, директора нет.
Конечно, он никуда не ходил, а я уже заигрался в другие игры и забыл про мячик.
Наше окно выходило на юг. В ясные дни по утрам солнце висело высоко над ближними крышами. Мне приснился сон, будто я утром смотрел в окно на солнце, но вместо солнца сияло лицо боженьки в виде иконы, и от него исходили золотые лучи. Какое-то чувство подсказало мне никому не рассказывать об этом сне.
Слово «боженька» я слышал от мамы, но иконы Христа никогда не видел. Потом этот сияющий лик я узнал на лицевой иконе.
Праздники
Хорошо помню один из праздников 1-го Мая. По радио бодрая музыка:
Утро красит нежным светомстены древнего Кремля.Просыпается с рассветомвся советская земля.Холодок бежит за ворот…Меня нарядили по-праздничному, папа подарил маленький, на деревянной палочке, красный флажок с жёлтой окантовкой и серпом-молотом. С этим флажком мы с папой через подворотню по переулку пошли на Садовое кольцо смотреть демонстрацию. Серенькое, прохладное утро. Я так и чувствовал холодок за воротом.
В том месте, где Садовое кольцо спускается к Самотёчной площади, на нашей стороне есть возвышающаяся на несколько метров над тротуаром длинная земляная площадка. Встали на этой горке. Дома и фонарные столбы разукрашены красными полотнами и огромными цветами. Сверху нам прекрасно было видно заполненное демонстрантами Садовое кольцо от Сухаревской до площади Маяковского.
Вся ширина улицы представляла собой движущуюся многоцветную гирлянду из флагов, больших разноцветных цветов на палках, портретов, тоже на палках, больших и маленьких шаров, машущих людей.
Большие сооружения катились на колёсах, на некоторых из них ехали люди. Проплыл огромный голубой земной шар и другие фигуры. На ходу играли духовые оркестры и гармони.
Мы долго стояли и смотрели, а эта разноцветная гирлянда не заканчивалась. Иногда она останавливалась, потом двигалась снова.
Среди зрителей, стоявших на горке, появились торговцы с самодельными детскими игрушками – вертушками из цветной бумаги на палочках, мячиками на резинках, разворачивающимися и сворачивающимися радужными ячеистыми кругами, то ли многоцветными солнышками, то ли подсолнухами без семечек…
У одного торговца из руки свисали на нитках чёрные мышки. Если такую мышку опустить на землю и отпустить нитку, мышка сама бежала пока вся нитка ни ускользала в дырочку на её спине. Такую мышку мы и принесли домой.
Мышка забавно бегала по столу и по полу, и по дивану. Я её обследовал. Она была картонная. Снизу открыта, в ней находилась деревянная катушка, как у мамы. Я эти катушки кусал и знал на вкус, берёзовый. На катушке была намотана нитка, её и вытягивали из спины мышки.
Почему-то, когда нитку вытягивали и потом отпускали, катушка сама накручивала нитку на себя. Я не мог понять – почему катушка сама накручивала нитку. А она в мышке держалась на резинках.
К праздникам варили студень из свиных ножек. Самым вкусным считалось «глодать мослы». Ставилась целая миска мослов. Попадались фигурные косточки «лодыжки». Они были похожи на танки. Мама говорила, что в деревне лодыжками играли.
Весной, в день 40-ка мучеников, по сути, в День весеннего равноденствия, мама пекла из теста жаворонков с глазом-изюминкой. Один раз я напросился самому слепить жаворонка, как это делала мама. Долго мял тесто, кое-как слепил и изюминку воткнул. И когда мама положила на подмасленный противень мой жаворонок рядом со своими, то мой оказался чуть сероватым, а не белым, как мамины.
9-е Мая не был официальным праздником и выходным днём. Не было в этот день и парада. Парады и выходные устраивали 1-го Мая и 7-го Ноября.
1-е Мая и 7-е Ноября в кругу родителей были просто лишними выходными днями и поводом собраться вместе с земляками и родственниками за общим столом, поговорить-повспоминать, попеть, а то и поплясать. О международной солидарности и революции – не говорили.
Собирались у кого-нибудь по очереди. Иногда совмещали с новосельем, или другим семейным торжеством, тогда и праздновали веселей.
Одежда чётко делилась на будничную и праздничную, новую.
Мама красила губы и выщипанные брови – тоненько, как тогда было модно. Это ей совсем не шло и выглядело ужасно.
В её дамской сумке с тугим запором в виде блестящих шариков, зацеплявшихся друг за друга с щёлчком, в кармашке лежало маленькое зеркальце.
Хорошо выпивали-закусывали с приговорками: после первой «на вторую ногу», потом «бог любит троицу», потом «телега без четырёх колёс не бывает» и т. д.
Женщины водку, называемую «белым вином», не пили, только «красное». На столе обязательно – в длинной селёдочнице кусочки селёдки покрытые кружочками лука, студень с горчицей и хреном, домашние пироги.
Сидение за оживлённым праздничным столом маме удовольствия явно не доставляло. Вино едва пригубливала. Выпив, гости и хозяева дружно энергично распевали «Каким ты был…», «Ой, цветёт калина…», «На Волге широкой…», «Хвастать, милая, не стану……
Мама уныло тихо подпевала для вида.
А папа, подвыпивший на много ног, веселился и плясал, как никто – подпрыгивая, крутился на одной ноге.
Один раз, когда и я был в гостях, начался очень сильный ливень. Гости удивлялись и повторяли: – Льёт, как из ведра!
Я долго смотрел на крышу дома напротив, на водосточные трубы, на небо и никак не мог разглядеть, где ведро, из которого льёт вода.
Прежде чем уйти гости в передней всегда долго прощались и повторяли: – Извините… Спасибо за угощение… Извиняйте… Извините…
Я тогда не мог понять – за что извиняются?
В русском языке есть пара родственных слов «простите-прощайте». Второе слово имеет и второе значение – расстаёмся, ухожу, покидаю. Видимо, в их деревенском говоре была аналогичная пара «извините-извиняйте», где второе слово тоже значило – расстаёмся, прощайте. Прощайте имеет печальный оттенок, а извиняйте – оттенок вежливости и благодарности. Конечно, часто путали значения извините и извиняйте.
К трамваю шли уже в свете фонарей. Мама ругала весёленького папу: – Никто не напился, ты всегда самый пьяный!
Праздновали и у нас. Бомкины приехали из Щёлкова на маленьком уютном собственном Москвиче первой модели. Дядя Боря работал механиком на аэродроме Чкаловский.
После первой рюмки папа, конечно, говорил: – «Надо на вторую ногу»… И «наливай до краёв, а то жена будет губастая»…
Гости, как всегда долго прощались: – Извиняйте… Извините!
Бомкины остались ночевать. Дядя Боря ночевал в машине: – У меня на сиденьях ковры новые, как бы ни стащили.
Наше окно смотрело в сторону центра Москвы, Кремля. Поэтому в праздничные дни, погасив свет в комнате, удобно было смотреть салюты. В небе рассыпались разноцветные гроздья, и как только они, падая, исчезали – по небу быстро-быстро кружились лучи прожекторов. Вдруг они все замирали и гасли – и тут же взлетали новые цветные гроздья. И опять по небу начинали бегать лучи прожекторов…
Когда приходили единичные гости, часто за чаем смотрели наш альбом с фотографиями, их вставляли уголками в полукружные прорези. Мне очень нравилась чёрная крепкая обложка альбома с рельефной тиснёной картинкой берега озера, мельницей, домом, пряслами ограды. Альбом перевязывался шёлковыми толстыми витыми шнурками крест-накрест.
Новый год
Новый год и дни рождения ограничивались семейным кругом.
Под новый 1949-й год папа купил очень красивый толстый календарь с цветными репродукциями картин русских и советских художников: «Письмо с фронта», «На охоте», «Фашист пролетел». Румяные мордастые колхозницы на солнечном току деревянными лопатами весело бросали золотое зерно в большую кучу…
В конце календаря оказались рисунки для вырезания и склеивания самодельных ёлочных игрушек. Перед каждым Новым годом мы мастерили самодельные игрушки, хотя хватало и покупных – серебряных стеклянных, картонных пузатых рыбок, хлопушек, ватных блестящих лебедей… Самодельные игрушки в основном делал старший брат, а мы с сестрой смотрели и учились вырезать и клеить из цветной гладкой, гофрированной и мраморной бумаги китайские фонарики, звёзды и гирлянды…
Из пустой яичной скорлупы получился звездочёт в высоком колпаке и с белой длинной бородой из ваты.
Ёлка стояла на полу, или на круглом столике, и тогда упиралась макушкой в потолок. Наряжали её стеклянными разноцветными шарами и разными фигурками, куколкой в одеяле, яблоком с блестящими листьями, грушей, разноцветными бусами… Единственная игрушка, о которой я мечтал – увиденный у Лёни Васенева пластмассовый сказочный домик, светящийся от вставленной в него лампочки.


