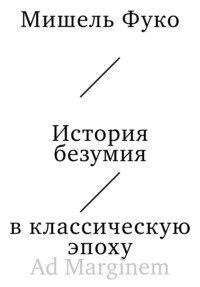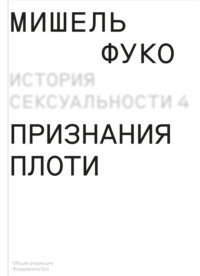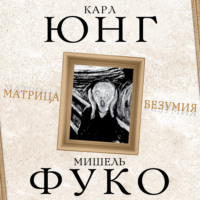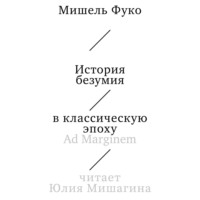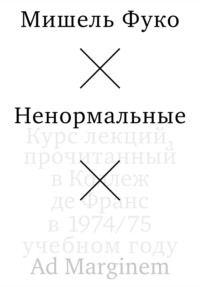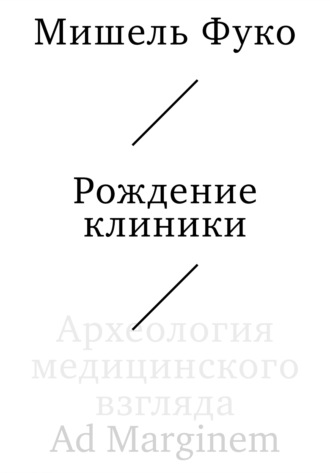
Полная версия
Рождение клиники. Археология медицинского взгляда
При таких условиях медицина, конечно, должна отказаться от определенной формы знания, которую Соваж называл математической: «Знать величины и уметь их измерять, например, определять силу и частоту пульса, степень жара, силу кашля и прочие подобные симптомы» [23]. Если Меккель производил измерения, то не для того, чтобы получить какое-то знание в математической форме; для него речь шла об измерении степени определенного патологического качества, составляющего болезнь. Никакая поддающаяся измерению механика тела со своими физическими или математическими частностями не может объяснить патологическое явление; судороги могут вызываться иссушением и сокращением нервной системы – что, конечно, относится к области механики, но это механика взаимосвязанных качеств, артикулированных движений, последовательно запускающихся поражений, а не механика поддающихся количественному измерению сегментов. Речь может идти о механизме, но он не принадлежит к порядку Механики. «Врачи должны ограничиваться изучением сил лекарств и болезней через их воздействие; они должны тщательно наблюдать за ними и постигать их законы, неутомимо разыскивая их физические причины» [24].
Восприятие болезни в больном, таким образом, предполагает качественный взгляд: чтобы понять болезнь, нужно взглянуть туда, где есть сухость, жар, возбуждение, туда, где есть влажность, закупорка, слабость. Как под одной и той же лихорадкой, одним и тем же кашлем, при одном и том же истощении различить плеврит от чахотки, если не распознать здесь сухое воспаление легких, а там – серозный выпот? Как иначе можно отличить судороги эпилептика, страдающего воспалением головного мозга, от судорог ипохондрика, страдающего застоем во внутренних органах, если не по их качеству? Тонкое восприятие качеств, чувствительность к различиям в том или ином случае, чуткое восприятие вариантов – нужна целая герменевтика патологического явления, основанная на модулированном и красочном опыте; следует измерять вариации, равновесия, избыточность или недостаточность: «Человеческое тело состоит из сосудов и жидкостей; …когда сосуды и волокна не имеют ни слишком большого, ни слишком малого тонуса, когда жидкости имеют соответствующую консистенцию, когда они движутся не слишком быстро и не слишком медленно, человек пребывает в здоровом состоянии; если движение… слишком сильное, ткани затвердевают, жидкости становятся густыми; если оно слишком слабое, волокна ослабевают, а кровь разжижается» [25].
И медицинский взгляд, открытый этим тончайшим качествам, по необходимости становится внимательным ко всем их модуляциям; расшифровка болезни в ее специфических чертах основывается на нюансированной форме восприятия, которая должна оценивать каждое особенное равновесие. Но в чем же заключается эта особенность? Это не организм, в котором патологические процессы и реакции были бы связаны уникальным образом, образуя «случай». Скорее, речь идет о качественных разновидностях болезни, к которым прибавляются, выводя их на второй уровень, вариации, которые могут представлять темпераменты. То, что классифицирующая медицина называет «частными историями», есть эффекты умножения, вызванные качественными вариациями (обусловленными темпераментом) сущностных качеств, характеризующих болезни. Больной индивид обнаруживается в той точке, где проявляется результат этого умножения.
Отсюда его парадоксальное положение. Тот, кто хочет узнать, о какой болезни идет речь, должен вычесть индивида с его частными качествами: «Создатель природы, – говорил Циммерман, – утвердил течение большинства болезней непреложными законами, которые вскоре обнаруживаются, если течение болезни не прерывается и не нарушается больным» [26]. На этом уровне индивид есть лишь негативный элемент. Но болезнь никогда не может проявляться вне темперамента, его качеств, его живости или тяжеловесности; и, хотя в целом она сохраняет свою физиономию, в деталях ее черты всегда приобретают особую окрашенность. И тот же Циммерман, видевший в больном лишь негатив болезни, «порой склонен», вопреки общим предписаниям Сиденхэма, «принимать лишь частные истории. Хотя природа в целом проста, в своих частях она тем не менее разнообразна; а значит, нужно стремиться познать ее и в целом и в частностях» [27].
Медицина видов испытывает обновленный интерес к индивидуальному – интерес, который делается всё более нетерпеливым и всё менее способным выдерживать общие формы восприятия, поспешным в своих суждениях. «Каждое утро в приемной какого-нибудь Эскулапа томится от пятидесяти до шестидесяти больных; он выслушивает жалобы каждого, выстраивает их в четыре ряда, прописывая первому кровопускание, второму слабительное, третьему клистир, четвертому проветривание» [28]. К медицине это не имеет отношения; то же касается больничной практики, убивающей способности к наблюдению и губящей таланты наблюдателя огромным количеством наблюдаемого. Медицинское восприятие не должно направляться ни на ряды, ни на группы; оно должно быть структурировано как взгляд через «увеличительное стекло, которое, будучи направлено на различные части объекта, делает при этом заметными другие части, которые без того остались бы незаметными» [29], производя бесконечную работу познания отдельных недугов. Здесь мы возвращаемся к теме портрета, о котором шла речь выше: больной – это болезнь, приобретшая индивидуальные черты; здесь она обретает тень и рельеф, модуляции, нюансы, глубину, и задача врача, описывающего болезнь, состоит в том, чтобы воссоздать эту живую плоть: «Нужно передать те же немощи больного, его страдания, с теми же жестами, тем же отношением, в тех же выражениях и с теми же жалобами» [30]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Pomme P. Traité des affections vaporeuses des deux sexes. 4e éd. Lyon, 1769. T. I. P. 60–65.
2
Bayle A. L. J. Nouvelle doctrine des maladiaes mentales. Paris, 1825. P. 23–24.
3
Lallemand F. Recherches anatomo-pathologoques sur l’encéphale. Paris, 1820. Introd., p. vii note.
4
Sournia J.-Ch. Logique et morale du diagnostic. Paris, 1962. P. 19.
5
Gilibert J. E. L’anarchie médicinale. Neuchâtel, 1772. T. I. P. 198.
6
Boissier de Sauvages F. Nosologie méthodique. Lyon, 1772. T. II.
7
Ibid. T. III.
8
Cullen W. Istitutions de médicine pratique / trad. Paris, 1785. T. II. P. 39–60.
9
Sydenham Th. Médicine pratique / trad. A. F. Jault. Paris, 1784. P. 390.
10
Ibid.
11
Sydenham Th. цит. по: Boissier de Sauvages F. Op. cit. T. I. P. 88.
12
Cullen W. Médicine pratiqu. Paris, 1785. T. II. P. 86.
13
Sydenham Th. цит. по: Boissier de Sauvages F. Op. cit. T. I. P. 124–125.
14
Sydenham Th. цит по: Boissier de Sauvages F. Op. cit. T. I. P. 124–125.
15
Clifton M. Etat de la médicine ancienne et modern / trad. fr. Paris, 1742. P. 213.
16
Frier F. Guide pour la conservation de l’homme. Grenoble, 1789. P. 113.
17
Guindant T. La nature opprimée par la médicine moderne. Paris, 1768. P. 10–11.
18
Английский перевод А. М. Шеридана содержит вставку, которая, на наш взгляд, существенно проясняет текст: «Одна из задач медицины, следовательно, состоит в том, чтобы воссоединиться со своей предпосылкой, но таким путем, на котором она должна стирать каждый свой шаг, ибо она достигает своей цели в постепенной нейтрализации самой себя. Предпосылка ее истины – это то, что по необходимости размывает ее очертания. Отсюда странный характер медицинского взгляда: он захвачен бесконечной взаимообратимостью. Он направлен на то, что есть в болезни видимого, но имеет своим основанием пациента, который скрывает этот видимый элемент, даже когда показывает его; таким образом, чтобы знать, он должен распознавать, уже обладая знанием, которое послужит опорой его распознаванию» (Foucault M. The Birth of the Clinic. An Archaeology of Medical Perception / transl. A. M. Sheridan. L.: Routledge, 1976. P. 9.) – Примеч. пер.
19
Spasme // Encyclopédie.
20
Haslam J. Observations on madness. Londres, 1798. P. 259.
21
Solano de Luques Fr. Observations nouvelles et extraordinaires sur la prédiction des crises, enrichies de plusieurs cas nouveaux par Nihell / trad. fr. Paris, 1748. P. 2.
22
См. с статью в: Gasette saluraire. T. XXI. 2 août 1764.
23
Boissier de Sauvages F. Op. cit. P. 91–92.
24
Tissot S.-A.-D. Avis aux gens de lettres sur leur santé. Lausanne, 1767. P. 28.
25
Ibid. P. 28.
26
Zimmermann G. Traité de l’Expérience / trad. fr. Paris, 1800. T. I. P. 122.
27
Zimmermann G. Traite de l’Experience. P. 184.
28
Ibid. P. 187.
29
Ibid. P. 127.
30
Ibid. P. 178.