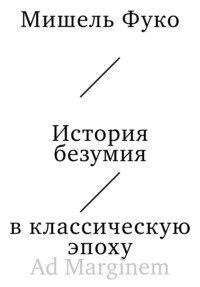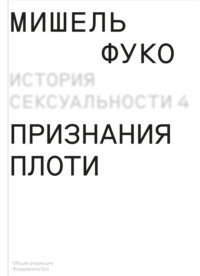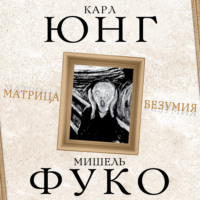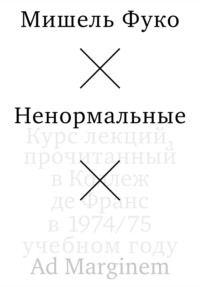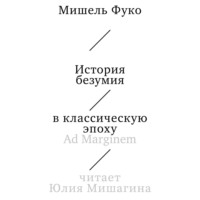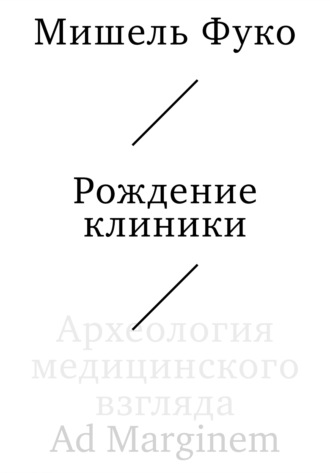
Полная версия
Рождение клиники. Археология медицинского взгляда
Скажу раз и навсегда, эта книга написана не за одну медицину против другой или против медицины и за ее отсутствие. Здесь, как и в других моих работах, речь идет об исследовании, которое пытается выявить в толще дискурса условия его истории.
В том, что говорят люди, важно не столько то, что они могли думать, или то, насколько это отражает их мысли, сколько то, что изначально организует их, делая их в дальнейшем легкодоступными для новых дискурсов и готовыми взяться за их преобразование.
I. Пространства и классы
Для наших многое повидавших глаз человеческое тело, в силу естественного права, представляет собой пространство происхождения и распространения болезни: пространство, линии, объемы, поверхности и пути которого определяются согласно уже знакомой нам по анатомическому атласу географии. Это надежное и доступное взгляду упорядочение тела есть лишь один из тех способов, при помощи которых медицина пространственно определяет болезнь. Не первый, конечно же, и не самый главный. Были и будут и другие формы распределения болезни.
Удастся ли нам когда-нибудь выявить в потаенных глубинах тела структуры, ответственные за аллергические реакции? Будет ли когда-нибудь установлена точная геометрия распространения вируса в тканевом срезе? Можно ли найти в евклидовой анатомии закон, определяющий пространственность этих явлений? В конце концов, достаточно вспомнить, что в старой теории симпатий использовался словарь соответствий, соседств, гомологий: понятий, для которых в чувственно воспринимаемом пространстве анатомии вряд ли найдется подходящий лексикон. Всякая значительная мысль в области патологии приписывает болезни конфигурацию, пространственные характеристики которой не обязательно соответствуют требованиям классической геометрии.
Точное совпадение «тела» болезни и тела больного человека, конечно же, носит исторический и преходящий характер. Их встреча очевидна лишь для нас, а вернее, сейчас мы начинаем отказываться от нее. Пространство конфигурации болезни и пространство локализации заболевания в теле совпадали в медицинском опыте лишь недолгое время, совпадающее с медициной XIX столетия и главенством патологической анатомии. Время, отмеченное сюзеренитетом взгляда, ибо в том же самом перцептивном пространстве, сохраняя те же длительности или разрывы, опыт мгновенно выявляет видимые поражения организма и согласованность патологических форм; болезнь отчетливо артикулируется в теле, а ее логическое распределение ставится в зависимость от анатомических масс. «Взгляду» остается лишь добраться до истины, чтобы обнаружить, что это та сила, которой он владеет по праву.
Но как сформировалось это право, выдаваемое за неотъемлемое и естественное? Каким образом то место, откуда болезнь дает о себе знать, может само по себе определять фигуру, в которую сходятся ее элементы? Парадоксально, но никогда пространство формирования болезни не было столь свободным, столь независимым от пространства его локализации, чем в классифицирующей медицине, то есть в той форме медицинского мышления, которая хронологически предшествовала анатомо-клиническому методу и сделала его исторически возможным.
«Никогда не лечите болезнь, не выяснив сперва, какого она рода», – говорил Жилибер [5]. От «Нозологии» Соважа (1761) до «Нозографии» Пинеля (1798) принцип классификации господствует в медицинской теории и даже в практике: он выступает как имманентная логика болезненных форм, принцип их дешифровки и семантическое правило их определения: «Так что не обращайте внимания на тех завистников, которые хотели бы набросить тень презрения на труды прославленного Соважа… Помните, что он, быть может, единственный среди всех когда-либо живших врачей подчинил все наши догмы непогрешимым правилам здравой логики. Посмотрите, как тщательно он подбирает слова, с какой скрупулезностью ограничивает определения каждой болезни». Прежде чем разместиться в самых глубинах организма, болезнь вносится в иерархический порядок семейств, родов и видов. Очевидно, речь идет не о чем ином, как о «таблице», помогающей сделать разрастающуюся область болезней доступной для изучения и запоминания. Но на уровне более глубоком, чем эта пространственная метафора, и для того, чтобы сделать ее возможной, классифицирующая медицина полагает определенную «конфигурацию» болезни: она никогда не формулировалась как таковая, но задним числом можно определить ее основные положения. Подобно тому как генеалогическое древо за своими сравнениями и всевозможными воображаемыми темами предполагает пространство, в котором родство формализуемо, нозологическая таблица включает в себя диаграмму болезней, которая не является ни цепочкой следствий и причин, ни хронологической последовательностью событий, ни их видимой в человеческом теле траекторией.
Такая организация оттесняет локализацию в организме в область второстепенных проблем, утверждая основополагающую систему отношений, включающую охват, подчинение, различия, сходства. Это пространство включает в себя: «вертикаль», из которой произрастает всё, что ею предполагается, – лихорадка, в которой «последовательно борются озноб и жар», может протекать как в одном эпизоде, так и в нескольких; они могут следовать один за другим непрерывно или через определенный интервал; этот перерыв может длиться не более 12 часов, достигать одного дня, продолжаться целых два дня или же иметь неопределенный ритм [6]; и «горизонталь», куда переносятся гомологии, – на двух ветвях судорог мы обнаруживаем в идеальной симметрии «частичные тонические» и «общие тонические», «частичные клонические» и «общие клонические» [7]; а еще, в соответствии с закономерностью выделений, то, чем катар является для горла, дизентерия является для кишечника [8]. Глубинное пространство, предшествующее любым восприятиям и управляющее ими издалека; именно оттуда, из его пересекающихся линий, из масс, которые оно распределяет или иерархизирует, болезнь, представая нашему взгляду, привносит свои черты в живой организм.
Каковы же принципы этой первичной конфигурации болезни?
1. По мнению врачей XVIII века, она дается в «историческом» опыте, противопоставляемом «философскому» знанию. Историческим является такое знание, которое описывает плеврит через четыре его проявления: лихорадка, затрудненность дыхания, кашель и боль в боку. Философским же было бы такое знание, которое задается вопросом о происхождении, принципе, причинах: охлаждение, серозный выпот, воспаление плевры. Различие между историческим и философским, однако, не сводится к различию между причиной и следствием: Каллен основывает свою классификационную систему на установлении ближайших причин; равно как и не к различию между принципом и следствиями; Сиденхэм полагал, что занимается историческим исследованием, изучая «тот способ, какими природа создает и поддерживает различные формы болезней» [9]; это даже не различие между видимым и скрытым или предполагаемым, поскольку порой приходится выслеживать «историю», которая ускользает и прячется при первом осмотре, как лихорадочный жар у некоторых чахоточных: «рифы, скрывающиеся под водой» [10]. Историческое вбирает в себя всё, что фактически или в принципе, рано или поздно, прямо или косвенно может быть представлено взгляду. Причина, которая становится видимой, мало-помалу проявляющийся симптом, различимый принцип его происхождения принадлежат не к порядку философского знания, а к знанию весьма простому, которое должно предшествовать всем остальным и которое ситуирует исходную форму медицинского опыта. Речь идет об определении своего рода фундаментальной области, где нивелируются перспективы, а сдвиги выравниваются: следствие имеет тот же статус, что и причина, предшествующее совпадает с последующим. В этом гомогенном пространстве связи распадаются, а время упраздняется: местное воспаление – это не что иное, как идеальное сопоставление его «исторических» элементов (покраснение, опухоль, жар, боль), без постановки вопроса об их взаимообусловленности или темпоральных пересечениях.
Болезнь преимущественно воспринимается в пространстве проекции без глубины и совпадения без развития. Есть лишь один план и лишь один момент. Форма, в которой первоначально проявляется истина, – это поверхность, рельеф которой одновременно появляется и сам себя упраздняет, – портрет: «Тот, кто пишет историю болезней, должен внимательно наблюдать за ясными и естественными проявлениями недугов, которые покажутся ему хоть сколько-нибудь интересными. В этом отношении он должен подражать художникам, которые при создании портрета стараются подметить все черточки и мельчайшие детали натуры, обнаруживаемые в лице изображаемого ими человека» [11]. Первая структура, которую устанавливает для себя классифицирующая медицина, – это плоская поверхность постоянной одновременности. Таблица и картина.
2. Это пространство, в котором аналогии определяют сущности. Таблицы – это подобия, но они также подобны одна другой. Дистанция, отделяющая одну болезнь от другой, измеряется лишь степенью их сходства, безотносительно к логико-временному расхождению в генеалогии. Исчезновение произвольных движений, снижение внутренней или внешней чувствительности – это общее состояние, которое проявляется в таких частных формах, как апоплексия, обморок, паралич. В пределах этого большого родства обнаруживаются незначительные отклонения: апоплексия лишает возможности пользоваться всеми органами чувств и произвольной моторикой, но не затрагивает дыхание и работу сердца; паралич, в свою очередь, затрагивает лишь локально очерченную область чувствительности и моторики; обморок в целом похож на апоплексию, но прерывает дыхательные движения [12]. Перспективное распределение, заставляющее нас видеть в параличе симптом, в обмороке – эпизод, в апоплексии – органическое и функциональное поражение, не существует для классифицирующего взгляда, который чувствителен только к поверхностным разделениям, где соседство определяется не измеримыми расстояниями, а аналогией форм. Усиливаясь в достаточной степени, эти аналогии перешагивают порог простого родства и обретают сущностное единство. Между апоплексией, разом лишающей подвижности, и хроническими и развивающимися формами, постепенно поражающими всю двигательную систему, принципиального отличия нет: в этом симультанном пространстве, где разбросанные во времени формы сходятся и накладываются одна на другую, родство сжимается до идентичности. В плоском, однородном, неметрическом мире болезнь существует там, где есть избыток аналогий.
3. Форма аналогии раскрывает рациональный порядок болезней. Когда мы видим сходство, мы не просто устанавливаем систему удобных и соотносимых между собой определений; мы беремся расшифровывать интеллигибельный порядок болезней. Приподнимается завеса над принципом их создания: таков всеобщий закон природы. Как и в случаях с растениями или животными, игра болезней по сути своей специфична: «Высшее существо следует не менее определенным законам в том, что касается создания болезней или вызревания болезнетворных гуморов, нежели при скрещивании растений и животных… Тот, кто внимательно следит за порядком, временем, часом, когда начинается приступ квартальной лихорадки, явлениями озноба, жара – словом, за всеми присущими ей симптомами, имеет столько же оснований полагать, что данная болезнь есть вид, сколько у него оснований думать, что какое-то растение составляет вид, поскольку оно всегда растет, цветет и умирает одним и тем же образом» [13].
Для медицинской мысли эта ботаническая модель имеет двоякое значение. С одной стороны, она позволяет превратить принцип аналогии форм в закон порождения сущностей, и к тому же она позволяет перцептивному вниманию врача, которое там и тут что-то находит и увязывает, по праву выйти на онтологический уровень, прежде какого бы то ни было проявления внутренне организующей мир болезни. С другой стороны, порядок болезни есть не что иное, как отличительная черта жизненного мира: там и тут господствуют одни и те же структуры, одни и те же формы разделения, одна и та же упорядоченность. Рациональность жизни идентична рациональности того, что ей угрожает. Они не относятся друг к другу как природа и контрприрода, но в общем для них природном порядке сочетаются и накладываются одна на другую. В болезни мы узнаем жизнь, поскольку закон жизни лежит также в основе познания болезни.
4. Речь идет о видах одновременно естественных и идеальных. Естественных, поскольку болезни выражают в них свои сущностные истины; идеальных, поскольку они никогда не даются в опыте без искажений или помех.
Первое искажение вносится самой болезнью и через нее. К чистой нозологической сущности, которая фиксирует и полностью занимает свое место среди прочих видов, больной прибавляет множество помех, таких как свои предрасположенности, свой возраст, свой образ жизни и целый ряд обстоятельств, которые по отношению к сущностному ядру представляются случайными. Чтобы узнать истину патологического факта, врач должен абстрагироваться от болезни: «Тот, кто описывает болезнь, должен позаботиться о том, чтобы отличить симптомы, которые ее обязательно сопровождают и присущи ей, от симптомов, которые являются случайными и необязательными, например, от тех, что зависят от темперамента и возраста больного» [14]. Парадоксально, но по отношению к тому, от чего он страдает, пациент является лишь внешним фактом; медицинское знание должно принимать его во внимание лишь затем, чтобы заключить его в скобки. Конечно, нужно знать «внутреннюю структуру наших тел», но лишь затем, чтобы вычленить и открыть взгляду врача «природу и сочетание симптомов, кризисов и других обстоятельств, сопровождающих болезни» [15]. Не патологическое выступает по отношению к жизни как контрприрода, но больной по отношению к болезни как таковой.
И не только больной, но и сам врач. Его вмешательство носит насильственный характер, если не находится в строгом подчинении у идеального порядка нозологии: «Знание болезни – это компас врача; успешность лечения зависит от точного знания болезни»; взгляд врача изначально направлен не на то конкретное тело, то видимое целое, ту позитивную наполненность, которая находится перед ним, – больного, – но на прерывности в природе, на пустоты и промежутки, где, как в негативе, проявляются «знаки, отличающие одну болезнь от другой, истинное от ложного, законное от незаконного, вредоносное от благотворного» [16]. Это сеть, набрасываемая на подлинного больного и предотвращающая всякую терапевтическую неосторожность. Назначенное чересчур рано и со спорными намерениями лекарство противно сути болезни и затуманивает ее; оно мешает подобраться к ее истинной природе и, делая ее течение неправильным, превращает ее в неизлечимую. В период инвазии врач должен затаить дыхание, поскольку «начало болезни для того и существует, чтобы распознать ее класс, род и вид»; когда симптомы усиливаются и становятся выраженными, он может «уменьшить их ярость и доставляемое ими страдание»; в период стабильности он должен «шаг за шагом следовать пути, по которому движется природа», укрепляя ее, если она слишком слаба, и ослабляя, «если она чересчур энергично стремится уничтожить то, что ей мешает» [17].
В рациональном пространстве болезни врачи и больные не занимают свое место по праву; их терпят как помехи, которых трудно избежать: парадоксальная роль медицины заключается прежде всего в их нейтрализации, в поддержании максимальной дистанции между ними, чтобы в пустоте, образующейся между ними, идеальная конфигурация болезни обрела конкретную, свободную форму, сложилась наконец в неподвижную симультанную таблицу, не имеющую ни глубины, ни тайны, где познание открывается самому себе в соответствии с порядком сущностей.
Классифицирующая мысль задает себе сущностное пространство. Болезнь существует только в нем, поскольку оно конституирует ее в качестве природы; и тем не менее она всегда кажется немного смещенной по отношению к нему, поскольку предстает уже вооруженному глазу врача в реальном больном. Прекрасное плоское пространство портрета – это одновременно и источник, и конечный результат: тем, что изначально делает возможным рациональное и обоснованное медицинское знание, и тем, к чему оно постоянно должно устремляться через то, что скрывает его от взгляда. Одна из задач медицины, таким образом, заключается в том, чтобы воссоединиться со своей предпосылкой, причем таким путем, на котором она должна стирать каждый свой шаг, поскольку она достигает своей цели, нейтрализуя не только те случаи, на которые она опирается, но и свое собственное вмешательство. Отсюда странный характер медицинского взгляда, который вращается по бесконечной спирали: он обращается к тому, что есть видимого в болезни, но при этом отталкивается от больного, который скрывает это видимое, показывая его; следовательно, он должен распознавать, чтобы знать [18]. Продвигаясь вперед, этот взгляд отступает, поскольку до истины болезни он добирается лишь в том случае, если позволяет ей взять верх над собой, победить и дать злу обрести полноту в своих проявлениях, в своей природе.
Болезнь, которую можно представить в таблице, проявляется через тело. Здесь она встречает пространство, имеющее совершенно иную конфигурацию: это пространство объемов и масс. Его ограничения определяют зримые формы, принимаемые болезнью в больном организме: то, как она распространяется в нем, проявляется, развивается, изменяя ткани, движения или функции, вызывает видимые при вскрытии повреждения, порождает в том или ином месте ряд симптомов, провоцирует реакции и тем самым ведет к летальному или благоприятному исходу. Речь идет о тех сложных и производных фигурах, посредством которых сущность болезни с ее табличной структурой выражается в неподатливом и плотном объеме организма и обретает в нем тело.
Каким образом плоское гомогенное пространство классов может стать видимым в географической системе масс, дифференцированным по объему и размерам? Как болезнь, определяемая тем, какое место она занимает в семействе, может характеризоваться своим очагом в организме? Эту проблему можно было бы назвать проблемой вторичного пространственного распределения патологического.
В классифицирующей медицине поражение какого-либо органа не является абсолютно необходимым для определения болезни: оно может перемещаться из одной точки локализации в другую, поражать другие телесные поверхности, оставаясь всё тем же по своей природе. Пространство тела и пространство болезни могут свободно скользить по отношению друг к другу. Одно и то же спазматическое состояние может из нижней части живота, где оно будет вызывать диспепсию, висцеральный застой, задержку менструальных или геморроидальных выделений, переместиться в грудь, сопровождаясь удушьем, учащенным сердцебиением, ощущением кома в горле, приступами кашля, и наконец достичь головы, вызывая эпилептические судороги, обмороки или коматозный сон [19]. Эти соскальзывания, которым сопутствует такое множество симптоматических модификаций, могут со временем развиваться у одного человека; их также можно обнаружить при обследовании ряда людей с различными участками поражения: в висцеральной форме спазм встречается преимущественно у лимфатических субъектов, в церебральной форме – у сангвиников. Но в любом случае сущностная патологическая конфигурация не меняется. Органы служат твердой опорой болезни, но никогда не составляют ее необходимого условия. Система точек, определяющих аффектированность организма, не является ни постоянной, ни необходимой. У них нет заранее определенного общего пространства.
В том телесном пространстве, где она свободно циркулирует, болезнь претерпевает метастазы и метаморфозы. Перемещение отчасти меняет ее. Носовое кровотечение может перейти в кровохарканье или кровоизлияние в мозг; единственное, что должно сохраняться, – это специфическая форма кровоизлияния. Вот почему медицина типов на протяжении всего своего существования отчасти была связана с учением о симпатиях – эти две концепции могли упрочивать одна другую для поддержания правильного баланса в системе. Симпатическое сообщение в организме осуществляется иногда локально очерченным посредником (диафрагма при спазмах или желудок при перепадах настроения); иногда целой диффузионной системой, пронизывающей всё тело (нервная система при болях и судорогах, сосудистая система при воспалении); в иных случаях простым функциональным соответствием (задержка выделений передается от кишечника почкам, а от этих последних – коже); наконец, путем подгонки чувствительности одной области к чувствительности другой (поясничные боли при водянке яичка). Но, независимо от того, имеет ли место совпадение, диффузия или посредничество, анатомическое перераспределение болезни не меняет ее сущностной структуры; симпатия поддерживает игру между пространством локализации и пространством конфигурации: она определяет их взаимную свободу и пределы этой свободы.
Скорее, следовало бы сказать не «предел», а «порог». Ибо, помимо симпатического переноса и утверждаемой им гомологии, может устанавливаться связь между одной болезнью и другой, связь причинности, но не родства. Одна патологическая форма может породить другую, весьма удаленную в нозологической таблице, своей собственной созидательной силой. Тело – это место сопоставления, последовательности, смешения различных видов. Отсюда путаница, отсюда смешанные формы, отсюда регулярные или, во всяком случае, часто встречающиеся последовательности, как между манией и параличом. Хаслам наблюдал таких бредовых больных, у которых «речь затруднена, рот перекошен, руки или ноги не способны к произвольным движениям, память ослабела» и которые чаще всего «не понимают, где они находятся» [20]. Переплетение симптомов, одновременность их крайних форм – всего этого недостаточно, чтобы сформировать единое заболевание; удаленность речевого возбуждения от двигательного паралича в таблице сродства болезней препятствует тому, чтобы хронологическая близость возобладала и определила их единство. Отсюда идея причинности, проявляющейся с небольшим временным отставанием; иногда первично начало мании, а порой весь набор симптомов открывается двигательными признаками: «Паралитические заболевания являются причиной безумия гораздо чаще, чем принято считать; они также являются весьма распространенным следствием мании». Никакой симпатический перевод не в силах преодолеть этот разрыв между видами, а общности симптомов в организме недостаточно, чтобы образовать единство вопреки их сущности. Таким образом, существует интернозологическая причинность, играющая роль, противоположную симпатии: эта последняя сохраняет свою основополагающую форму, перемещаясь во времени и пространстве, а причинность обеспечивает одновременность и взаимосвязь, которые смешивают сущностную чистоту.
Время играет в этой патологии ограниченную роль. Признается, что болезнь может быть долгой и что в этом процессе могут чередоваться ее эпизоды; со времен Гиппократа вычисляли критические дни, были известны значения артериальной пульсации: «Если пульс учащается примерно на каждом тридцатом ударе, кровотечение возникает на четыре дня позже, порой чуть раньше или чуть позже; когда это происходит на каждом шестнадцатом ударе, кровотечение происходит через три дня <…>. Наконец, когда это повторяется на каждом четвертом, третьем, втором ударе или когда это происходит непрерывно, следует ожидать кровотечение в течение двадцати четырех часов» [21]. Однако эта исчисляемая длительность является частью сущностной структуры болезни, поскольку хронический катар со временем переходит в чахоточную лихорадку. Не существует эволюционного процесса, в котором длительность сама по себе или в силу своего постоянства привносила бы новые события; время интегрировано как нозологическая константа, но не как органическая переменная. Время тела не влияет и тем более не определяет время болезни.
Таким образом, то, что сущностное «тело» болезни сообщается с реальным телом больного, – это не точки локализации и не эффекты длительности, скорее это качество. Меккель в одном из опытов, представленных Королевской академии Пруссии в 1764 году, объясняет, как он наблюдал изменение головного мозга при различных болезнях. При вскрытии он берет из мозга небольшие кубики равного объема (каждое ребро – шесть линий) в разных местах мозговой массы: он сравнивает эти образцы между собой и с образцами, взятыми от других трупов. Точным инструментом этого сравнения служат весы; при чахотке, болезни истощающей, удельный вес головного мозга оказался относительно ниже, чем при апоплексии, – болезни, связанной с ожирением (1 драхма ¾ грана против 1 драхмы 6 или 7 гранов), тогда как у нормального человека, умершего от естественных причин, средний вес составляет 1 драхму 5 гранов. В зависимости от области головного мозга этот вес может варьироваться: при чахотке мозжечок бывает особенно легким, при апоплексии центральные области тяжелы [22]. Таким образом, между болезнью и организмом существуют точки сцепления, расположенные в соответствии с зональным принципом; однако речь идет лишь о тех областях, где болезнь выделяет или переносит свои специфические качества: мозг маньяков легкий, сухой и рыхлый, потому что мания – живая, горячая, взрывная болезнь; мозг чахоточных бывает истощенным и вялым, инертным, обескровленным, потому что чахотка относится к общему классу геморрагий. Совокупность качеств, характеризующих болезнь, накладывается на орган, который затем служит носителем симптомов. Болезнь и тело сообщаются лишь через непространственный качественный элемент.