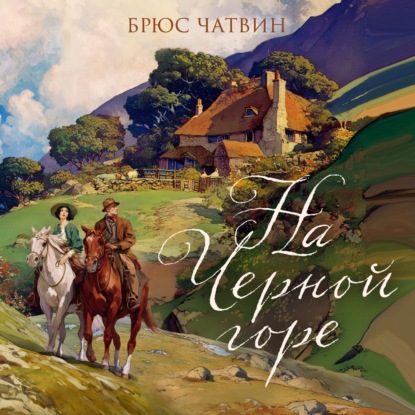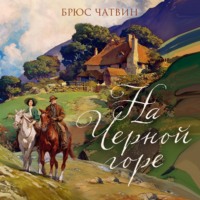Полная версия
На Черной горе
Или:
– У нас так мало сена, не знаю даже, хватит ли на зиму.
Амос, сидевший на другом конце стола, слыша такое, сгорал от стыда. Ему не нравилось, что его умная жена строит из себя дурочку. А она, если замечала, что он с трудом скрывает досаду, сразу же меняла тему и принималась развлекать гостей акварелями из своего индийского альбома.
Она показывала им Тадж-Махал, речные пристани, где сжигали покойников, и голых йогов, сидящих на гвоздях.
– А слоны – они очень большие? – спрашивал Уоткинс Гроб.
– В три раза крупнее ломовой лошади, – отвечала она, и калека корчился от смеха, представляя себе такую невидаль.
Индия была слишком далекой, большой и непостижимой страной, чтобы расшевелить в валлийцах воображение. Однако – Амос никогда не уставал напоминать об этом гостям – Мэри ступала по стопам самого Господа: своими глазами видела нарцисс Саронский[11]; для нее Кармель, Фавор, Хеврон и Галилея были такими же зримыми и осязаемыми, как, скажем, Рулен, Гласкум или Лланфихангел-нант-Мелан.
Большинство раднорширских фермеров знали Библию вдоль и поперек и предпочитали Ветхий Завет Новому, потому что в Ветхом Завете больше говорилось о скотоводах. А Мэри так ярко, так живо рассказывала о Святой земле, что у гостей перед глазами проплывали их любимые персонажи: Руфь с колосьями на поле, Иаков с Исавом, Иосиф в разноцветном плаще, Агарь-изгнанница, мучимая жаждой в тени колючего кустарника.
Конечно, не все верили ее рассказам. Самой недоверчивой была ее свекровь, Ханна Джонс.
Они с Сэмом завели обычай являться без приглашения. Ханна, закутанная в черный платок с бахромой, нависала над столом, жадно поедала сэндвичи и вечно нагоняла на всех тоску или чувство неловкости.
На одном из воскресных чаепитий она вдруг прервала Мэри на полуслове и спросила, не бывала ли она «случаем» в Вавилоне.
– Нет, мама. Вавилон же не на Святой земле.
– Конечно, – поддакнул Хейнс из Красного Дарена. – Он не на Святой земле.
Сколько бы Мэри ни старалась угодить свекрови, старуха невзлюбила невестку с первого взгляда. Она испортила свадебный завтрак, назвав молодую «ваша светлость». А первый семейный обед закончился слезами, когда Ханна выставила скрюченный палец и с глумливой усмешкой изрекла:
– Старовата уже детей вынашивать, а?
Ни разу не было такого, чтобы она заявилась к молодым и не нашла к чему придраться: то к салфеткам, свернутым в виде кувшинок, то к банке для повидла, то к соусу из каперсов для баранины. А после того как Ханна высмеяла серебряную подставку для тостов, Амос велел жене убрать этот предмет подальше, «чтобы не стать посмешищем».
Он и сам стал бояться визитов матери. Однажды она ткнула наконечником зонтика любимого терьера Мэри, и с того дня песик всегда скалил на старуху зубы и норовил юркнуть ей под юбку и цапнуть за лодыжку.
Чаша терпения переполнилась, когда Ханна выхватила из рук невестки масло и крикнула:
– Не пускай хорошее масло на выпечку!
Мэри, чьи нервы и так были на пределе, не выдержала и крикнула в ответ:
– Ну а вы на что его пустите? На себя, наверное?
Амос, хоть и любил жену, хоть и понимал, что права она, бросался на защиту матери.
– Мама хочет как лучше, – говорил он.
Или:
– Ей несладко в жизни пришлось.
А когда Ханна отводила его в сторонку и принималась жаловаться на мотовство Мэри и на ее «упрямство», он не прерывал ее тирады и поневоле соглашался с ее словами.
Правда заключалась в том, что все «благоустройства» Мэри доставляли ему не столько радость, сколько неудобство. Безукоризненно вымытый пол становился преградой для его грязной обуви. Камчатные скатерти делались укором его застольным манерам. Романы, которые Мэри читала вслух после ужина, нагоняли на него скуку, а уж еда, приготовленная ею, часто оказывалась на его вкус попросту несъедобна.
В качестве свадебного подарка миссис Бикертон прислала «Домоводство» миссис Битон[12], и хотя собранные там рецепты совершенно не годились для деревенской кухни, Мэри прочитала книгу от корки до корки и стала заранее планировать меню.
И вот, вместо вполне предсказуемых вареных окороков, пудингов и картофеля она подавала на стол кушанья, о которых ее муж никогда даже не слышал: фрикасе из цыпленка или рагу из зайчатины, а то и вовсе баранину под рябиновым соусом. Когда Амос стал жаловаться на запоры, Мэри сказала: «Значит, нам нужно выращивать салатные овощи», – и принялась составлять список семян для рассады. Но после того, как она предложила отвести целую грядку под спаржу, он чуть не впал в ярость. Да что она, в самом-то деле? Неужто воображает, что за благородного вышла?
Буря грянула, когда Мэри решила поэкспериментировать с мягким индийским карри. Амос начал было есть – и не смог, выплюнул.
– Не нужна мне твоя паршивая индийская дрянь, – прорычал он и грохнул тарелку с едой прямо на пол.
Она не стала подбирать куски и осколки. Побежала наверх в спальню и уткнулась лицом в подушку. Муж не пошел за ней следом и не попросил прощения наутро. Он завел обыкновение спать под открытым небом, а вечерами надолго уходил куда-то с бутылкой в кармане. Однажды дождливым вечером заявился домой пьяный. Усевшись на стул, он с диким видом уставился на скатерть и то сжимал, то разжимал кулаки. А потом встал и, качнувшись, двинулся к жене.
Она вся сжалась и выставила локоть:
– Не бей меня!
– Даже не думал, – промычал он и снова выскочил в темноту.
В конце апреля в саду набухали розовые почки, а над горой козырьком нависало облако.
Мэри дрожала у каминной решетки и слушала неустанный плеск дождя. Дом впитывал влагу, как губка. Сквозь слой побелки проступали безобразные круги плесени, обои вспучились.
Бывали дни, когда ей казалось, что она уже много лет просидела в этой сырой, сумрачной комнате, в западне с раздражительным мужчиной. Она смотрела на свои руки, все в трещинах и волдырях, и думала о том, что преждевременно состарится, очерствеет и подурнеет. Она даже забыла, что когда-то у нее были отец и мать. Краски Индии давно померкли, и Мэри стала отождествлять себя с одиноким, изломанным ветрами терновым кустом – из окна виднелся его силуэт на гребне утеса.
7
А потом пришла хорошая погода.
Восемнадцатого мая, хотя день был не воскресный, с дальней стороны горы донесся звон церковных колоколов. Амос запряг пони, и они поехали в Рулен, где у каждого окна развевался британский флаг в честь снятия осады Мафекинга[13]. Играл духовой оркестр, по Широкой улице шли строем школьники, неся портреты королевы и Баден-Пауэлла[14]. Даже собакам повязали на ошейники патриотические ленточки.
Когда их двуколка поравнялась с шествием, Мэри ткнула мужа в ребра, и он улыбнулся.
– Как зима, так я с ума схожу. – Голос его звучал заискивающе. – Бывает такая зима, как будто и не кончится никогда.
– Ну уж следующей зимой нам будет о ком заботиться, – сказала Мэри.
Он бережно поцеловал ее в лоб, а она обняла его за шею.
Утром, когда она проснулась, ветерок шевелил тюлевые занавески, на груше заливался дрозд, на крыше ворковали голуби, а по постельному покрывалу бегали солнечные зайчики. Амос еще спал. Его ситцевая ночная рубашка расстегнулась, обнажив грудь. Мэри искоса поглядывала на его вздымавшуюся грудную клетку, на рыжие волоски вокруг сосков, на розовую вмятину от запонки, на ту пограничную линию, где загорелая шея переходила в молочно-белую грудь.
Она на секунду положила руку на плечо мужа.
«Подумать только, я могла его бросить». Эти слова, так и не выговоренные вслух, заставили ее покраснеть и отвернуться к стене.
Амос теперь думал только о будущем малыше – и мысленно представлял себе крепкого паренька, который будет ловко чистить коровник.
Мэри тоже надеялась, что родится мальчик, и уже строила ему планы на будущее. Уж как-нибудь она сумеет отправить его в школу-пансион. Он будет прилежно учиться. А когда вырастет, станет государственным деятелем, или адвокатом, или хирургом – и будет спасать жизни людям.
Как-то раз, идя по улице, она рассеянно притянула к себе ветку ясеня и, глядя на крохотные прозрачные листики, вылезающие из дымчато-черных почек, напомнила себе о том, что и он тоже тянется к солнечному свету.
Ее близкой подругой стала Рут Морган из Бейли – маленькая неказистая женщина с простым лицом и светлыми волосами, собранными в узел и спрятанными под чепец. Она была лучшей повитухой в долине и помогала Мэри подготовить приданое для малыша.
В солнечные дни они садились на плетеные кресла в садике перед домом и шили подгузники и пеленки, подрубали безрукавки, юбочки и чепчики или вязали из голубой шерсти пинетки, в которые потом полагалось продеть завязки – атласные ленточки.
Иногда, чтобы поупражнять затекшие руки, Мэри играла вальсы Шопена на фортепиано, которое отчаянно нуждалось в настройке. Ее пальцы бегали по клавишам, и стаи нестройных аккордов вылетали из окна ввысь к голубям. Рут Морган прочувствованно вздыхала и говорила, что лучшей музыки нет в целом свете.
Когда приданое было готово, они разложили все вещицы перед Амосом, чтобы и он полюбовался.
– Но это же не для мальчишки, – возмутился он.
– Да нет же! – вскричали обе в унисон. – Именно для мальчишки!
Через две недели пришел подсобить со стрижкой овец Сэм Телега, да так и остался на ферме – помогать с огородом. Сеял, мотыжил, пикировал рассаду салата-латука, подрезал палки для гороха и опоры для фасоли. Однажды они с Мэри вырядили пугало в один из тропических костюмов миссионера.
У Сэма было лицо грустного старого клоуна.
После пятидесяти лет потасовок с мордобоями нос у него совсем сплющился. В нижней челюсти торчал одинокий резец. Белки глаз покрывала густая сеть красных жилок, а веки, казалось, шуршали при моргании. Присутствие хорошенькой женщины приводило его в состояние безудержной игривости.
Мэри приходились по душе его любезности, она смеялась над его небылицами – ведь он тоже «повидал мир». Каждое утро он собирал для нее букет, обрывая цветы с ее же клумбы перед домом, и каждый вечер, когда Амос проходил мимо него, направляясь к лестнице, старик потирал руки и кудахтал:
– Везунчик! Ух, был бы я помоложе!..
У него сохранилась старая скрипка – еще с тех пор, как он перегонял скот, – и, вынимая ее из футляра, он ласкал гладкую древесину, будто женское тело. Он умел сдвигать брови, как делают настоящие концертирующие скрипачи, и извлекать из инструмента дрожащие и рыдающие звуки. Когда он брал слишком высокие ноты, терьер Мэри задирал морду кверху и принимался выть.
Изредка, если Амос отлучался, они играли дуэтом – баллады «Лорд Томас и Прекрасная Элеонора» или «Неспокойная могила», – а однажды он застал их танцующими польку на первом этаже.
– А ну-ка перестань! – закричал он на жену. – Ребенку хочешь навредить?
Ханна же так злилась на поведение Сэма, что даже захворала.
До появления Мэри ей стоило только кликнуть: «Сэм!» – и ее муж, понурив голову, сразу же бормотал: «Да, милая!» и шел выполнять очередное ее поручение. Теперь же все руленцы видели, как она несется к «Красному дракону», оглашая улицу истошными воплями: «Сэ-э-эм!.. Сэ-э-эм!..», а Сэм между тем бродил где-то по горному склону и собирал грибы для невестки.
Однажды душным вечером – шла первая неделя июля – с улицы донеслось громыханье колесных ободьев, и к дому подъехал Хьюз Возчик. Он привез Ханну и пару ее узлов с пожитками. Амос приделывал новые петли к двери стойла. От неожиданности он выронил отвертку и спросил мать, зачем она приехала.
Она хмуро ответила:
– Мне нужно быть здесь, у постели.
Через день или два Мэри проснулась с приступом тошноты и с болями в спине – вдоль позвоночника так и стреляло. Когда Амос уже собирался спускаться, она схватила его за руку и взмолилась:
– Пожалуйста, попроси ее уехать. Без нее мне сразу станет лучше. Прошу тебя. Иначе…
– Нет, – ответил он, откидывая щеколду. – Мама останется здесь. Она нам не чужая.
Весь июль стоял страшный зной. Ветер дул с востока, небо сверкало суровой голубизной без единого облачка. Колодец с насосом пересох. Грязь растрескалась. В крапиве роились и жужжали слепни, а спина у Мэри болела все сильнее. Ночь за ночью ей снилось одно и то же – кровь и настурции.
Она чувствовала, как силы покидают ее. Ей казалось, что внутри у нее что-то лопнуло; ее стали преследовать мысли, что ребенок родится с уродством или мертвым или что сама она умрет родами. Иногда Мэри жалела, что не умерла еще в Индии, помогая бедным. Обложившись подушками, она молилась Спасителю, прося забрать у нее жизнь, но только – о Господи, Господи! – оставить в живых младенца.
Старая Ханна просиживала самые жаркие часы в кухне. Дрожа под своим черным платком, она вязала – медленно-премедленно – пару длинных белых шерстяных носков. Когда Амос забил до смерти гадюку, гревшуюся на солнышке возле крыльца, старуха скривила рот и изрекла:
– Это к смерти в семье!
Пятнадцатого июля у Мэри был день рождения, а так как ей стало немного лучше, она спустилась из спальни и попыталась завязать беседу со свекровью. Ханна прикрыла глаза и сказала:
– Почитай мне вслух!
– Что же вам почитать, мама?
– Про венки.
Мэри взяла номер «Херефорд Таймс» и нашла раздел объявлений о похоронах:
– «Отпевание мисс Вайолет Гух, трагически погибшей в прошлый четверг в возрасте семнадцати лет, состоялось в церкви Святого Асафа…»
– Я же сказала: венки!
– Да, мама, – отозвалась Мэри и начала с другого места: – «Венок белых лилий от тети Вай и дяди Артура: „Прощай навеки!..“ Венок желтых роз: „На вечную память от Поппет, Винни и Стэнли“… Искусственный венок в стеклянном футляре: „От торгового дома Гусон, помним, скорбим“… Букет роз Глуар де Дижон: „Спи спокойно, моя дорогая. От тети Мэвис, отель «Мостин», Лландриндод“… Букет полевых цветов: „Лишь спокойной ночи, любимая, не прощай! Твоя любящая сестра Сисси“».
– Ну, продолжай! – Ханна приоткрыла один глаз. – Что же ты замолчала? Давай! Дочитывай!
– Да, мама… «Гроб из красивого полированного дуба с латунной оснасткой был изготовлен фирмой „Ллойд и Ллойд“ из Престина; на крышке выведена следующая надпись: „Арфа! Великолепная арфа! С порванной струной!“».
Старуха мечтательно вздохнула.
Приготовления к появлению на свет младенца приводили Сэма в такое волнение, что его можно было принять за будущего отца. Он вечно придумывал, как бы еще угодить Мэри: собственно, только при виде его лица она и улыбалась. Он истратил свои последние сбережения на колыбель-качалку, которую заказал Уоткинсу Гробу. Колыбель была выкрашена красной краской, с синими и белыми полосками, и увенчана четырьмя резными навершиями в форме певчих птиц.
– Папа, ну зачем же вы… – Мэри хлопала в ладоши, глядя, как старик пробует качать люльку на кухонном полу.
– Да ей не колыбель понадобится, а гроб, – проворчала Ханна и опять уткнулась в свое вязание.
Вот уже пятьдесят с лишним лет у нее лежала (как часть приданого к свадьбе) одна-единственная, ни разу не стиранная, белая хлопчатобумажная ночная сорочка, в которую ее следовало обрядить на похороны, вместе с теми самыми белыми носками. Первого августа она дошла до пятки на втором носке, и с того дня вязала все медленнее и медленнее, вздыхая между петлями и сипло приговаривая: «Уже недолго осталось!»
Кожа ее, которая и в лучшие времена цветом напоминала бумагу, теперь сделалась совсем прозрачной. Дышала старуха хрипло и прерывисто, языком ворочала с трудом. Всем, кроме Амоса, было ясно: она приехала сюда умирать.
Восьмого августа погода наконец переменилась. Из-за горы выглянули и поползли по небу, громоздясь друг на друга, дымчатые облака с серебристыми верхушками. В шесть утра Амос и Дай Морган косили остатки овса. Все птицы умолкли, и воцарилась тишина, какая обычно предшествует буре. В воздухе метался чертополоховый пух. Вдруг всю долину огласил пронзительный вопль.
Начались схватки. Наверху, в спальне, Мэри корчилась, стонала, сбрасывала простыню и кусала подушку. Рут Морган как могла успокаивала роженицу. Сэм хлопотал на кухне, кипятил воду. Ханна сидела на скамье и вела счет петлям.
Амос оседлал коня, пустив его галопом, перевалил через гору и сам не свой поскакал по тропе каменотесов в Рулен.
– Мужайся, приятель! – проговорил доктор Булмер, разделив хирургические щипцы на две половины и рассовав их по голенищам своих сапог для верховой езды. Затем, засунув флягу с настоем спорыньи в один карман и бутылку с хлороформом в другой, он застегнул воротник макинтоша, и оба помчались навстречу надвигавшейся грозе.
Когда они привязывали лошадей к садовой ограде, дождь уже шумно хлестал по черепичной кровле.
Амос пытался было пройти наверх, но врач оттолкнул его, и он рухнул в кресло-качалку, как будто его сильно ударили в грудь.
– Всемилостивый Боже, пусть только родится мальчик, – простонал он. – И я больше никогда к ней не прикоснусь.
Он схватился за передник Рут Морган, когда она проходила мимо с кувшином воды.
– Она не умирает? – жалобно промычал он, но та только стряхнула его руку и велела не молоть чепуху.
Через двадцать минут дверь спальни распахнулась, и из глубины донесся голос:
– Есть в доме еще газеты? Клеенка? Что угодно!
– Это мальчик?
– Целых два!
В ту ночь Ханна довязала второй носок, а три дня спустя умерла.
8
Первое воспоминание близнецов относилось к тому дню, когда их укусила оса, причем оба запомнили это происшествие одинаково хорошо.
Они сидели на высоких детских стульчиках для кормления за чайным столиком. Наверное, это было время вечернего чаепития, потому что солнечный свет вливался в кухню с запада, отскакивая от клеенки и заставляя братьев мигать. Пожалуй, дело было осенью, возможно, в октябре, когда осы делаются сонными. В небе за окном застыла сорока, гроздья красной рябины колыхались на ветру. На столе лежали куски хлеба, намазанные блестящим ярко-желтым маслом. Мэри засовывала в рот Льюису ложку с яичным желтком, а Бенджамин, в припадке ревности размахивая руками, чтобы привлечь внимание к себе, задел левой осу и был ужален.
Мэри полезла в аптечный шкафчик за ватой и нашатырным спиртом, протерла пострадавшую руку и, глядя, как место укуса раздувается и краснеет, стала приговаривать:
– Терпи, малыш! Терпи!
Но Бенджамин и не думал плакать. Он просто поджал губы и смотрел грустными серыми глазами на брата. Потому что не он, а Льюис хныкал в тот момент от боли и поглаживал собственную левую руку, будто раненую птичку. Он продолжал кукситься, пока не пришла пора укладываться спать. Лишь крепко обнявшись в кроватке, близнецы успокоились и уснули; с тех пор яйца стали прочно ассоциироваться у них с осами, и ко всему желтому они относились с большой подозрительностью.
Так Льюис впервые выказал способность оттягивать боль от брата на себя.
Он был более сильным из близнецов, к тому же первенцем.
Чтобы показать, кто именно появился на свет первым, доктор Булмер надрезал крестик у него на запястье; еще с колыбели Льюис проявлял себя как сильнейший. Он не боялся ни темноты, ни чужих. Любил устраивать кучу-малу с овчарками. Однажды, когда никого поблизости не было, он протиснулся через незапертую дверь в хлев, где Мэри и обнаружила его через несколько часов: он что-то лопотал быку.
Бенджамин, напротив, был страшный трус. Он вечно сосал большой палец, истошно вопил, если его разлучали с братом, и ему все время снились кошмары: про то, как он угодил в сенорезку, или про то, что его топчут ломовые лошади. При этом всякий раз, когда ему действительно делалось больно – например, он падал в крапиву или ударялся обо что-нибудь ногой, – ревел за него Льюис.
Спали близнецы в тускло освещенной комнате, расположенной у лестничного пролета, на кровати-раскладушке на колесиках. Однажды утром (это тоже было одно из их самых ранних воспоминаний) они проснулись и заметили, что потолок приобрел какой-то непривычный серый оттенок. Поглядев в окно, мальчики увидели лиственницы в снегу и кружащиеся в воздухе снежинки.
Придя одевать детей, Мэри обнаружила, что они устроили на полу у кровати какое-то гнездо и свернулись там в клубок.
– Не валяйте дурака, – сказала она. – Это всего лишь снег.
– Нет, мама, – раздались два приглушенных голоска из-под одеял. – Это Боженька плюется.
Если не считать воскресных поездок в Леркенхоуп, их первым выездом из дома было посещение цветочной выставки в 1903 году – тогда еще пони испугался мертвого ежа на улице, а их мать получила первый приз за красную стручковую фасоль.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Джереми Тейлор (1613–1667) – английский священник, проповедник и писатель. – Здесь и далее примеч. перев.
2
«Светоч мира» (1854) – символическая картина английского художника-прерафаэлита Холмана Ханта (1827–1910), изображающая Христа с семигранным светильником в руке.
3
Каратак – кельтский вождь, возглавивший вооруженное сопротивление римлянам, когда в 50-е годы I века они попытались завоевать Британию. Впоследствии исторический персонаж стал прототипом обобщенного героя валлийских легенд.
4
Речь идет о захвате десятков американских дипломатов в Иране после Исламской революции в 1979 году. Заложников удалось освободить только в 1981-м, в день инаугурации Р. Рейгана.
5
Генри Лонгфелло. Песнь о Гайавате. Перевод Ивана Бунина.
6
Гимн (1745) валлийского поэта, писателя и священника Уильяма Уильямса Пантицелина (1717–1791).
7
Ис. 1: 18.
8
Погребальные ворота (англ. lychgate) – ворота, как правило, крытые, ведущие на кладбище.
9
Картина Ханта как раз иллюстрирует эти евангельские слова из Мф. 7: 7.
10
Коб – порода коренастых верховых лошадей.
11
«Я нарцисс Саронский, лилия долин!» (Песн. 2: 1).
12
Изабелла Битон (1836–1865) – английская домохозяйка, выпустившая в 1861 году кулинарную книгу, которая пользовалась огромным спросом в викторианскую эпоху.
13
Осада Мафекинга в Южной Африке, длившаяся с октября 1899-го по май 1900 года в ходе англо-бурской войны, закончилась поражением буров.
14
Роберт Баден-Пауэлл (1857–1941) – британский военачальник, комендант британской крепости Мафекинг, организатор скаутских отрядов во время осады бурами.