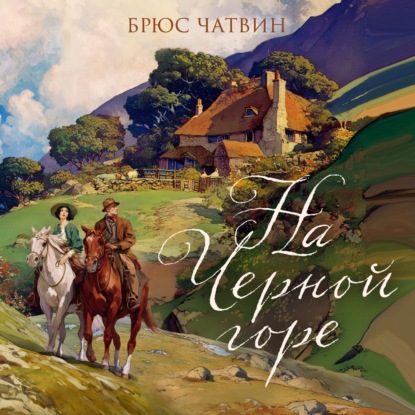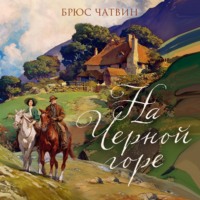Полная версия
На Черной горе
– А я ведь до сих пор не знаю, как вас зовут, – проговорила она и протянула на прощанье руку. – Амос Джонс – замечательное имя.
Она дошла с ним по саду к воротам, помахала на прощанье и побежала обратно к дому. Когда он обернулся напоследок, она уже стояла в кабинете. Черные щупальца араукарии, отражавшиеся в окне, словно держали в плену ее белое лицо, прижавшееся к стеклу.
Он поднимался в гору, перескакивая с одного травянистого бугра на другой, и кричал во все горло:
– Мэри Латимер! Мэри Джонс! Мэри Латимер! Мэри Джонс! Мэри!.. Мэри! Мэри!..
Через два дня он вернулся в пасторский дом, прихватив подарок: собственноручно ощипанную и выпотрошенную курицу.
Она стояла на крыльце в длинном синем шерстяном платье, с наброшенной на плечи кашмирской шалью; к коричневой бархатной ленте, обвивавшей шею, была приколота камея с изображением Минервы.
– Вчера я не смог прийти, – сказал он.
– Я знала, что вы придете сегодня.
Она запрокинула голову и рассмеялась, а собачка, унюхав курицу, запрыгала и начала цапать Амоса за штаны. Он вытащил курицу из заплечного мешка. Мэри увидела холодную пупырчатую тушку. Перестала улыбаться – стояла на пороге как вкопанная и дрожала.
Они пытались поговорить в прихожей, но она заламывала руки и смотрела на вымощенный красной плиткой пол, а он переминался с ноги на ногу и чувствовал, как краснеет от шеи до ушей.
Обоих распирало желание что-то сказать друг другу. И оба понимали, что сказать им больше нечего, что ничего из их встречи не выйдет, что два их голоса никогда не сольются в один, и каждый уползет обратно в свою раковину, как будто та вспышка узнавания в церкви была насмешкой судьбы или искушением лукавого, решившего их погубить. Они продолжали что-то бормотать, запинаясь, и мало-помалу слова вылетали все реже, между ними пролегало все больше молчания. Они уже не глядели друг на друга, когда он неловко пробрался к выходу и бросился бежать к горе.
Ее мучил голод. В тот вечер она изжарила курицу и попыталась заставить себя поесть. После первого же куска отбросила нож и вилку, отдала блюдо собаке и побежала наверх, в спальню.
Мэри лежала ничком на своей узкой кровати и рыдала в подушку, синее платье распласталось вокруг ее тела, в колпаках над печными трубами завывал ветер.
Ближе к полуночи ей померещился хруст чьих-то шагов по гравию.
– Он вернулся! – крикнула она, но потом поняла, что это вьющаяся роза скребется колючками в окно.
Она принималась считать овец, но вместо того, чтобы нагнать на нее сон, эти глупые животные лишь пробудили другое воспоминание – о другой ее любви, которая приключилась с ней в пыльном индийском городке.
Он был полукровка-евразиец со слащавым взглядом, постоянно сыпавший извинениями. Она впервые увидела его на телеграфе, где он служил. Когда холера забрала ее мать и его молодую жену, они обменялись соболезнованиями на англиканском кладбище. Потом встречались вечерами и прогуливались вдоль лениво текущей реки. Он звал ее к себе и угощал переслащенным чаем с буйволовым молоком. Читал ей наизусть монологи из Шекспира. С надеждой говорил о платонической любви. Его маленькая дочка носила золотые сережки, а нос у нее был забит соплями.
– Потаскуха! – кричал на нее отец, когда почтальон доложил ему о «нескромности» дочери. Он на три недели запер ее в душной комнате, чтобы у нее было время раскаяться, и посадил на хлеб и воду.
Около двух часов ночи ветер переменил направление и завыл по-другому. Она услышала, как сломалась ветка – хррясь! – и вдруг, заслышав этот древесный звук, подскочила в кровати:
– О боже! Он подавился куриной костью!
Она ощупью пробралась вниз по лестнице. Сквозняк задул свечу, когда она отворила дверь на кухню. Она остановилась в темноте, вся дрожа. За шумом ветра можно было расслышать, как песик мирно похрапывает в своей плетенке.
На рассвете она взглянула за кроватные перила и в задумчивости остановила взгляд на гравюре по картине Холмана Ханта. «Стучите, и отворят вам»[9], – говорил Спаситель. Но разве она не стучала и не размахивала светильником у двери дома? В тот миг, когда сон наконец пришел, тоннель, по которому она блуждала, показался ей длиннее и темнее, чем обычно.
4
Амос таил свою злость. Все лето напролет он работал не покладая рук, как будто силясь вытравить память о высокомерной женщине, которая пробудила в нем надежды и сама же разрушила их. Часто, лишь увидев мысленно ее серые кожаные перчатки, он грохал кулаком по своему холостяцкому столу.
В пору сенокоса он пошел в помощники к одному фермеру на Черной горе и познакомился там с девушкой по имени Лиза Беван.
Они встречались в лощине и ложились в ольховой роще. Она покрывала его лоб поцелуями, перебирала ему волосы своими короткими пальцами. Но что бы он ни делал – что бы она ни делала, – ничто было не в силах стереть из его памяти образ Мэри Латимер, которая с обиженно-укоризненным видом насупливает брови. Ночами без сна, в одиночестве, как мучительно ему хотелось, чтобы рядом с ним оказалось ее гладкое белое тело!
Как-то раз на летней лошадиной ярмарке в Рулене он разговорился с пастухом – тем самым, что нашел тело утонувшего пастора.
– А что дочка? – спросил Амос притворно-равнодушным тоном.
– Уезжает, – ответил пастух. – Собирается, вещи пакует.
На следующее утро, когда Амос дошел до Брин-Драйнога, припустил дождь. Капли стекали по его щекам, барабанили по листьям лавров. В буках, росших вокруг пасторского дома, молодые грачи учились расправлять крылья, а их родители кругами летали рядом, одобрительно покаркивая. На подъездной дороге для экипажей стояла легкая двухколесная карета. Конюх помахал скребницей рыжеволосому незнакомцу, который широким шагом входил в дом.
Она была в кабинете – вместе с каким-то потрепанным, жидковолосым джентльменом в пенсне, листавшим книгу в кожаном переплете.
– Профессор Гетин-Джонс, – представила она его, не выказав ни капли удивления. – А это – просто мистер Джонс, который пришел, чтобы вывести меня на прогулку. Пожалуйста, извините нас. Продолжайте читать.
Профессор пробубнил что-то невнятное. Ладонь у него была сухая и жесткая. Сероватые жилы проступали над костяшками пальцев, как корни над камнями; изо рта плохо пахло.
Она вышла из комнаты и вернулась с разрумянившимся лицом, в резиновых сапогах и плаще из клеенчатой холстины.
– Это папин друг, – шепнула она, как только они отошли на некоторое расстояние. – Теперь вы видите, что мне пришлось вынести. Он хочет, чтобы я отдала ему все книги – даром!
– Лучше продайте, – сказал Амос.
Они поднимались под дождем овечьей тропой. Гора скрылась в тумане, бурные потоки текли по ней из облачной гряды. Он шагал впереди, раздвигая заросли утесника и папоротников, а она шла за ним ровно след в след.
Они остановились у скал, потом двинулись по старой грунтовке – рука об руку, разговаривая совершенно запросто, будто дружили с детства. Иногда она не могла разобрать какое-нибудь слово из его раднорского диалекта. Иногда он просил ее повторить сказанное. Но оба понимали, что перегородки, которая их разделяла, больше нет.
Амос рассказывал о своих планах, Мэри – о своих страхах. Он мечтал о жене и ферме, а еще о сыновьях, которым можно будет ее передать. Она боялась, что станет обузой родственникам и придется пойти в услужение. Мэри была так счастлива в Индии – пока была жива мать. Она рассказала ему о миссии и о страшных днях перед муссонами:
– Было так жарко. Мы просто задыхались!
– А мне наоборот, когда батрачил зимой, согреться негде было, разве только в пабе у огня, – отозвался он.
– Может, мне вернуться в Индию? – проговорила она, но так неуверенно, что он сразу понял: ей этого совсем не хочется.
В облаках появился разрыв, и на торфяные болота косо упали темно-желтые лучи света.
– Глядите! – вдруг сказал он и показал на жаворонка, который кружил прямо у них над головами, взлетая с каждым витком все выше и выше, будто спешил навстречу солнцу. – У него, знать, гнездо где-то рядом.
Она вдруг услышала легкий хруст и увидела желтое пятнышко на мыске сапога.
– Что это?! – испугалась она. – Что я натворила!
Оказалось, она наступила на гнездо жаворонка и передавила все яйца. Мэри села на кустик трав, по щекам текли слезы. Она прекратила плакать только после того, как он приобнял ее за плечи.
У пруда Маун они немного развлеклись бросанием плоских камушков, соревнуясь, чей продержится дольше, отскакивая рикошетом от поверхности темной воды. Из камышовых зарослей вылетали, оглашая окрестности жалобными криками, озерные чайки. Когда он подхватил ее на руки, чтобы перенести через заболоченное место, она ощутила себя невесомой, как повисший над землей туман.
Вернувшись к пасторскому дому, они снова стали обращаться друг к другу холодными, короткими фразами, словно умиротворяя тень ее отца. Профессор так и сидел зарывшись в книги.
– Лучше продайте, – повторил Амос, оставляя ее на крыльце.
Она кивнула и не стала махать на прощанье. Теперь она знала, когда и зачем он явится в следующий раз.
Он приехал днем в субботу на гнедом уэльском кобе[10], держа за поводья пегого мерина с дамским седлом. Она окликнула его из спальни, как только заслышала стук копыт. Он прокричал:
– Скорее! На Черной горе сдают в аренду ферму.
– Лечу! – отозвалась она и сбежала по лестнице в костюме для верховой езды, сшитом из сизо-серой индийской хлопчатой ткани. Соломенная шляпка, увенчанная розами, была подвязана под подбородком розовой атласной лентой.
Амос раскошелился на новую пару сапог, и Мэри, увидев их, ахнула:
– Боже, что за сапоги!
Среди узких тропинок притаились летние запахи. На живых изгородях жимолость переплелась с кустами шиповника, аистник пестрел голубыми цветами, а наперстянка – багряными. По дворам расхаживали вперевалку утки, лаяли овчарки, гуси шипели и тянули шеи. Амос отломил ветку бузины, чтобы отгонять слепней.
Они проехали мимо дома со шток-розами, высаженными у крыльца, и с огненными настурциями по бордюру. Старуха в волнистом капоре подняла глаза от вязанья и проговорила что-то хриплым голосом, обращаясь к наездникам.
– Старая Мэри Проссер, – шепнул он, когда они немного отъехали. – Говорят, она колдунья.
Пересекли дорогу на Херефорд у леса Фиддлерс-Элбоу; пересекли железнодорожные пути, потом начали подниматься по тропе каменотесов, что зигзагом вьется крутыми уступами Кефна.
У края сосновой посадки сделали остановку, чтобы лошади отдохнули, и оглянулись назад, на расстилавшийся внизу Рулен: на городскую мешанину из шиферных кровель, на полуразвалившиеся стены замка, на шпиль Мемориала Бикертона и флюгер церкви, блестевший в бледном свете солнца. В саду викария горел костер, шлейф серого древесного дыма взлетал выше печных труб и уносился прочь вдоль речной долины.
В сосняке было холодно и темно. Лошади скользили копытами по прошлогодней хвое. Звенели комары, валежник желтел оборчатыми наростами древесных грибов. Мэри дрожала, всматриваясь в длинные проходы между стволами сосен:
– Здесь все мертвое.
Они доехали до края рощи, выбрались на свет и двинулись дальше по открытому склону; лошади, почуяв под ногами траву, перешли на галоп – из-под копыт, будто ласточки, взлетали в воздух серпики дерна.
Они галопом преодолели холм, рысью спустились в долину, усеянную фермами, миновали ряды поздно зацветших боярышников и выехали на улицу Леркенхоуп. Всякий раз, как они проезжали мимо чьих-нибудь ворот, Амос коротко сообщал о хозяине дома: «Морган из Бейли, большой чистюля»; «Уильямс Врон, женат на кузине»; «Гриффитс из Кум-Кринглина, папаша его от пьянства помер».
В поле мальчишки собирали сено в стога, у дороги краснолицый селянин в рубахе, расстегнутой до пупа, затачивал косу.
– Милая у тебя подружка! – подмигнул он Амосу, когда они поравнялись с ним.
У ручья дали лошадям напиться, потом постояли на мосту, глядя, как колышутся водоросли и быстро идет против течения радужная форель. Они проехали еще полмили, и Амос распахнул замшелые ворота. Дальше вилась проселочная дорога, поднимаясь по склону к дому, рядом с которым росла группка лиственниц.
– Видение, так его тут называют, – сказал Амос. – Сто двадцать акров, и половина папоротником заросла.
5
Видение было дальней фермой поместья Леркенхоуп, принадлежавшего Бикертонам – старинному католическому семейству, которое разбогатело на торговле с Вест-Индией.
Прежний арендатор умер в 1896 году, оставив старую незамужнюю сестру, которая продолжала жить на ферме до тех пор, пока ее не увезли в сумасшедший дом. Во дворе сквозь дощатый кузов телеги пророс молодой ясень. Крыши хозяйственных построек желтели соцветиями очитка, навозная куча заросла травой. В дальнем конце сада стояла сложенная из кирпичей уборная. Амосу пришлось сбивать крапиву, чтобы расчистить подход к крыльцу.
Из-за сломанной петли дверь не поддавалась; когда Амос приподнял ее, навстречу им подуло чем-то зловонным.
Войдя в кухню, они увидели гниющий в углу узел со старухиным добром. Штукатурка осы́палась, на плитах пола застыла пленка грязной слизи. Галки свили гнездо на печной трубе, забив ветками дымоход и каминную решетку. Стол стоял накрытым для чаепития на двоих, но чашки заплела паутина, а от скатерти остались одни лохмотья.
Амос подобрал салфетку и смахнул мышиный помет.
– Похоже, тут крысы! – весело сказала Мэри, когда со стропил донеслись звуки возни. – Но крыс я не боюсь. В Индии к ним быстро привыкаешь.
В одной из комнат она нашла старую тряпичную куклу и со смехом принесла Амосу. Он хотел было выбросить ее из окна, но Мэри поймала его руку и сказала:
– Не надо, пусть останется.
Они вышли наружу – осмотреть хозяйственные постройки и плодовый сад. Терносливы должны дать хороший урожай, сказал он, а вот яблони придется высадить новые. Сквозь колючки она разглядела ряд трухлявых ульев.
– Кажется, мне предстоит узнать пчелиные тайны.
Он помог ей перебраться по приступке через забор, и они стали подниматься вверх, пересекая два поля, заросшие утесником и терновником. Солнце уже закатилось за крутой склон, над его краем тянулись завитушки медно-красных облаков. Она исколола лодыжки о колючие кустарники, и сквозь белые чулки выступили бусинки крови. Он предложил понести ее на руках, но она сказала:
– Ничего страшного.
Когда они вернулись к лошадям, луна была уже высоко. Лунный свет падал на открытую шею Мэри, соловей наполнял темноту мелодичными трелями. Амос обнял ее за талию и спросил:
– Ты бы смогла здесь жить?
– Смогла бы, – ответила она и повернула к нему лицо, пока он сцеплял свои руки у нее на пояснице.
На следующее утро она пришла к руленскому викарию и попросила его сделать оповещение о предстоящем браке: палец ей оплетало кольцо из травинок.
Священник – он как раз завтракал – пролил яйцо себе на сутану и пробормотал:
– Ваш отец не одобрил бы этот брак.
Он посоветовал ей подождать полгода, прежде чем принимать решение, но она поджала губы и ответила:
– Зима надвигается. Нам нельзя терять время.
В тот же день несколько горожанок наблюдали за тем, как Амос помогает Мэри сесть в двуколку. Жена галантерейщика сердито прищурилась, словно вдевала нитку в иголку, и изрекла:
– Уже на пятом месяце.
Другая сказала:
– Стыдоба! – и все они принялись наперебой удивляться, что же такое нашел Амос Джонс в «этой нахалке».
В понедельник на заре, когда не видно было еще ни души, Мэри уже стояла у конторы Леркенхоупского поместья и дожидалась управляющего Бикертонов, чтобы обсудить с ним условия аренды участка. Она пришла одна. Амос с трудом держал себя в руках, когда нужно было близко общаться с «благородными».
Управляющий – дальний родственник помещиков, красномордый любитель выпивки – был бесславно уволен со службы в индийской армии и лишился пенсиона. Бикертоны платили ему скудное жалованье, но, так как он неплохо справлялся со счетами и ловко обращался с «наглыми» арендаторами, ему позволялось стрелять барских фазанов и пить барский портвейн.
Он любил изображать большого весельчака и потому, когда Мэри изложила цель своего визита, засунул большие пальцы под жилетку и расхохотался:
– Значит, хотите переметнуться к крестьянам? Ха-ха! Я бы на вашем месте подумал!
Она вспыхнула. Высоко на стене висела траченная молью оскаленная лисья морда. Управляющий побарабанил пальцами по обтянутой кожей столешнице.
– Видение! – отрывисто проговорил он. – Даже не помню, бывал ли я там. Даже не помню, где оно находится! Давайте посмотрим на карте.
Он с видимым трудом поднялся и, взяв ее за руку, повел к карте поместья, целиком занимавшей одну из стен комнаты. Кончики пальцев у него были темные от никотина.
Он стал совсем рядом и хрипло проговорил:
– Это на горе, там же холодно, разве нет?
– Зато безопаснее, чем на равнине, – возразила она и высвободила свои пальцы из его руки.
Он снова уселся. Мэри он сесть не предложил. Пробурчал что-то про «других желающих» и велел четыре месяца ждать ответа от полковника Бикертона.
– Боюсь, это слишком долго, – улыбнулась она и тихо ушла.
Она прошлась обратно к Северному охотничьему домику, попросила у жены смотрителя листок бумаги и написала записку для миссис Бикертон, с которой однажды встречалась лично, еще вместе с отцом. Управляющий пришел в ярость, когда узнал, что из замка отправили лакея, чтобы пригласить Мэри к чаю в тот же день.
Миссис Бикертон была хрупкой светлокожей дамой лет под сорок. В юности она занималась живописью и жила во Флоренции. Потом, когда талант, казалось, покинул ее, она вышла замуж за красивого, но безмозглого кавалерийского офицера – то ли из-за его коллекции старых мастеров, то ли просто назло друзьям-художникам.
Недавно полковник отправился в отставку, так и не сделав ни единого выстрела по врагу. У супругов был сын Реджи и две дочери – Нэнси и Изабелла. Дворецкий провел Мэри через ворота розария.
Миссис Бикертон пряталась от жаркого солнца, сидя в тени ливанского кедра возле бамбукового чайного столика. По южному фасаду взбирались розовые вьющиеся розы; на всех окнах были опущены голландские шторы, и замок выглядел необитаемым. Это был «фальшивый» замок – его построили в 1820-е годы. С другой лужайки долетал стук крокетных мячей и молодой, звонкий смех, говорящий о достатке.
– По-китайски или по-индийски?
Миссис Бикертон пришлось повторить свой вопрос. Три нитки жемчуга опускались на оборки ее серой шифоновой блузки.
– По-индийски, – рассеянно ответила гостья. А когда хозяйка наливала чай из серебряного чайника, услышала новый вопрос:
– Вы уверены, что сделали правильный выбор?
– Уверена, – ответила она и закусила губу.
Лицо у миссис Бикертон погрустнело и вытянулось, рука дрожала. Она хотела предложить Мэри место гувернантки при своих детях, но спорить было бесполезно.
– Я поговорю с мужем, – сказала она. – На ферму можете рассчитывать.
Когда ворота распахнулись, Мэри на миг задумалась: смогут ли такие розы цвести так же вольно там – на высоте, на ее стороне горы? До конца месяца они с Амосом успели настроить столько планов, что им должно было хватить на всю оставшуюся жизнь.
В отцовской библиотеке оказалось несколько редких изданий. Мэри продала их букинисту из Оксфорда, и вырученных денег хватило на арендную плату на два года вперед, а еще на покупку пары ломовых лошадей, четырех молочных коров, двадцати голов нагульного скота, плуга и подержанной соломорезки. Договор об аренде был подписан. Дом вычищен и побелен, входная дверь выкрашена коричневой краской. Амос прибил к притолоке ветку рябины «от дурного глаза» и купил стаю белых голубей для голубятни.
Вместе с отцом они привезли из Брин-Драйнога пианино и старинную кровать, которую еле затащили на второй этаж («адская работенка»). Позже, сидя в пабе, старый Сэм хвастался приятелям, что Видение – настоящее «Божье гнездышко».
Невеста боялась только одного: что из Челтнема может примчаться ее сестра и испортить свадьбу. Мэри с облегчением вздохнула, читая от нее письмо с отказом приехать, а добравшись до слов «осрамила себя», разразилась неудержимым смехом и швырнула листок в огонь вместе с остатками отцовских бумаг.
Когда ударили первые морозы, новоиспеченная миссис Джонс уже была беременна.
6
В первые месяцы супружества она занималась благоустройством дома.
Зима выдалась суровая. С января по апрель снег на горе не таял, и замерзшие листья наперстянок висели поникшими, будто уши дохлых ослов. Каждое утро Мэри приникала к окну спальни, всматриваясь в лиственницы: черные они или белые от инея? Скотина в мороз замирала и затихала, и стрекот швейной машинки долетал до самого загона для окота овец.
Мэри сшила кретоновый полог для кровати и зеленые плюшевые шторы для гостиной. Разрезала старую нижнюю юбку из красной фланели и сделала лоскутный коврик с розами, чтобы положить перед кухонным очагом. После ужина она садилась на скамью с высокой прямой спинкой, раскладывала вязанье на коленях и бралась за крючок, и Амос не мог налюбоваться на своего умелого паучка.
Сам он работал в любую погоду – пахал землю, ставил изгороди, рыл канавы, прокладывал дренажные трубы, возводил стены методом сухой кладки. В шесть часов вечера, усталый как собака и грязный, он возвращался в дом – к кружке горячего чая и теплым домашним тапочкам. Иногда он приходил промокший до нитки, и от него до самого потолка взвивались клубы пара.
Она даже не представляла, насколько он вынослив и упрям.
– Сними мокрое, – распекала она его. – А не то схватишь воспаление легких и умрешь.
– Обязательно, – усмехался он и выпускал ей в лицо колечки табачного дыма.
С ней он обращался как с хрупким предметом, который достался ему случайно и мог запросто сломаться в его руках. Он очень боялся ненароком сделать ей больно или дать волю своему горячему норову. Один вид ее корсета из китового уса вызывал у него жалость и умиление.
До женитьбы он обливался раз в неделю в помывочной. Теперь же, боясь оскорбить ее нежные чувства, завел обычай приносить горячую воду прямо в спальню.
Под гравюрой Холмана Ханта на умывальнике стояли кувшин и миска минтоновского фарфора с узором из сплетенных листьев плюща. И перед тем, как надеть ночную сорочку, Амос раздевался до пояса и намыливал себе грудь и подмышки. Рядом с мыльницей горела свеча, и Мэри, бывало, откидывалась на подушку и следила за отсветами пламени: в бакенбардах ее мужа мерцали красные искорки, вокруг плеч появлялся золотой ободок, а по потолку двигалась большая черная тень.
Когда он догадывался, что она наблюдает за ним сквозь полог, ему становилось неловко – он наскоро выжимал губку, задувал свечу и вместе с ароматом лавандового мыла приносил с собой в постель запах скотного двора.
Утром в воскресенье они ездили в Леркенхоуп принимать святое причастие в приходской церкви. Мэри благоговейно держала облатку на влажном языке: «Тело Христово да сохранит меня в жизнь вечную…» Благоговейно подносила к губам чашу с вином: «Кровь Христова да сохранит меня в жизнь вечную…» Потом, устремляя взгляд на латунный крест в алтаре, пыталась сосредоточиться на Страстях Господних, но мысли ее принимались блуждать и возвращались к крепкому, живому телу мужа, сидевшего рядом.
Большинство их соседей ходили в неангликанские молельни – их недоверие к англичанам было на много веков старше религиозного нонконформизма и восходило еще к временам пограничных баронов. С особенной подозрительностью относились к Мэри здешние женщины. Но вскоре она завоевала их симпатии.
Домашний быт, который она обустроила, стал предметом зависти всей долины, и по воскресеньям к вечернему чаепитию – если только не было гололеда – ко двору Видения подъезжали четыре или пять двуколок, запряженных пони. Завсегдатаями в доме новоселов были Реувены-Джонсы, Рут и Дай Морган из Бейли; молодой Хейнс из Красного Дарена и Уоткинс Гроб – рябой от оспы, косолапый бедолага, который приходил, ковыляя, с другой стороны горы, из Крайг-и-Феду.
Гости являлись с чинными лицами, с Библией под мышкой. Но вся их набожность мигом улетучивалась, стоило им взяться за испеченный Мэри фруктовый пирог, или за узкие длинные коричные тосты, или за коржики, намазанные густыми сливками и земляничным джемом.
На этих чаепитиях Мэри выступала полноправной хозяйкой, и ей казалось, будто она уже много лет замужем за фермером, а тем делам, которые ежедневно требовали ее труда, – сбить масло, напоить телят, задать корм птице – она не научилась совсем недавно, а знала их сызмальства. Она радостно щебетала о парше, о коликах или о воспалении копыт.
– Ума не приложу, – говорила она, – отчего в этом году кормовая свекла такая мелкая уродилась.