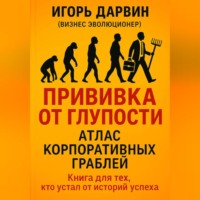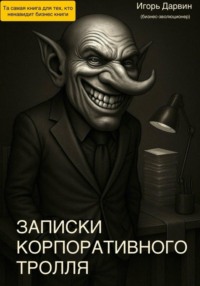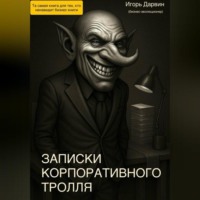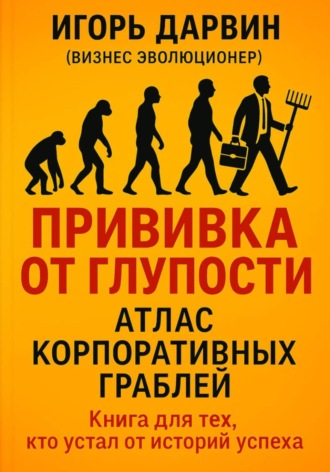
Полная версия
Прививка от глупости
Но потеря продуктивности – это лишь половина беды. Есть и другая, более ужасающая цена – сжатие вашей собственной жизни. Хотя теория относительности Эйнштейна говорит о физическом времени, существует ее поразительный психологический аналог. Наше субъективное восприятие времени напрямую зависит от количества новой информации, обрабатываемой мозгом. Когда вы проживаете рутинный, предсказуемый день, мозг работает на автопилоте, почти ничего не записывая. Тысячи таких дней сливаются в один смазанный миг. И наоборот, когда вы погружены в новую, насыщенную впечатлениями среду – как в той самой туристической поездке – мозг работает на полную мощность, фиксируя тысячи деталей. Время субъективно растягивается. Получается, что живя в состоянии «зависшего процессора», вы не просто выгораете. Вы сжигаете годы своей жизни, которые по внутренним ощущениям сжимаются до нескольких месяцев. Вы выживаете, но не живете.
И вот здесь мы подходим к истории про корпоративного тренера. Поначалу его советы кажутся бредом. Но он интуитивно нащупал фундаментальный принцип работы мозга, открытый еще физиологом Алексеем Ухтомским в его работах, собранных в книге «Доминанта», – принцип доминанты. Доминанта – это устойчивый очаг возбуждения в мозгу, который подчиняет себе все. У менеджеров NASA доминантой был «запуск». Тренер предлагает создать искусственную, игровую доминанту, чтобы переключить фокус с бесконечной «умственной жвачки» на простую, конечную задачу и остановить эффект Зейгарник.
Так что же делать, чтобы не превратиться в ментального зомби? Это не набор жестких правил, а скорее принципы ментальной гигиены.
Найдите свой рубильник. Осознайте, что способность к полной перезагрузке – это ключевой профессиональный навык. Для кого-то это спорт, для кого-то – рыбалка. Но самый мощный рубильник – это краткосрочный культурный шок. Ищите свои «Стамбулы».
Практикуйте серийную монозадачность. Эпоха многозадачности – миф. Ваш мозг не может делать два дела одновременно, он может лишь быстро переключаться, теряя энергию. Попробуйте работать сфокусированными интервалами. Многие успешные методики, основаны на этом принципе: определенный отрезок времени вы работаете только над одной задачей, полностью отключившись от внешних раздражителей. Затем – обязательный короткий перерыв. Найдите свой собственный ритм, который позволит вам погружаться в задачу глубоко, а не скользить по поверхности.
Завершайте день ритуалом. Эффект Зейгарник питается незавершенностью. Не заканчивайте день, просто захлопнув ноутбук. Потратьте последние 15 минут, чтобы подвести итоги и составить четкий план на завтра. Записанная задача воспринимается мозгом как частично завершенная. Вы как бы выгружаете ее из оперативной памяти на жесткий диск, давая сигнал: «На сегодня счет закрыт».
Чем раньше вы поймете, что ваш главный актив – это не время, а управляемое внимание, тем больше у вас шансов не просто выжить, а победить. В противном случае вы рискуете однажды обнаружить себя смотрящим на кого-то стеклянными глазами. И в этот момент вы поймете, что стали одним из тех, кто одобрил запуск «Челленджера». А это – начало конца.
Часть 2. Правила сломанной игры
Глава 1. Ледяная планета, или Протоколы мертвецов
Есть в карьерном росте один ядовитый парадокс, о котором не пишут в учебниках MBA. Его осознание похоже на привкус металла во рту во время сердечного приступа. Ты думаешь, что, поднимаясь наверх, накапливаешь мудрость, опыт, ценность. Ты становишься тяжелее, весомее. Твое слово должно обретать силу. А на деле происходит обратное. Чем выше ты забираешься по иерархической лестнице, тем менее интересен ты как личность, как носитель уникального опыта, и тем более интересен ты как функция. Как кнопка. Зеленая – «план выполнен». Красная – «план провален».
Но дело не только в смене оптики. Меняется сам воздух. Он становится разреженным и холодным, как в стратосфере. Исчезают полутона, ирония, живые человеческие споры. Разговоры превращаются в обмен кодированными сигналами, а совещания – в ритуальные танцы, где главная цель – не найти решение, а не совершить ошибку. Ты начинаешь чувствовать этот холод физически: в рукопожатиях, которые не греют, и во взглядах, которые скользят по тебе, не задерживаясь.
Я помню это странное похолодание. Первую половину пути, когда ты еще «на земле», ты живешь в диалоге. Твой руководитель нуждается в тебе. Он вызывает, слушает, спорит. Твои пилотные проекты, удачные находки, выстраданные решения – все это предмет обсуждения. Твои идеи тиражируют на другие филиалы. Ты мнишь себя, конечно, стратегом регионального масштаба, и эта иллюзия греет. Ты нужен. Твой мозг, твой опыт – это актив компании.
А потом ты пересекаешь невидимую черту. И диалог обрывается. Руководители нового уровня смотрят на тебя, как на приборную панель. Их не интересует, какты добился результата. Их не волнуют твои озарения и пройденные грабли. Они живут в циничной бинарной логике: есть цифра – сидишь на месте, нет цифры – освободи кресло. С одной стороны, это дарит свободу. Тебя не дергают, и ты можешь целиком посвятить себя своему участку, своему предприятию. Но вместе с поводком с тебя снимают и ошейник с именем. Ты становишься анонимной функцией. И в этой звенящей тишине ты начинаешь понимать: мудрость здесь никого не интересует. Здесь интересует только выживание.
И главным инструментом и одновременно симптомом этой системной болезни является его величество Протокол. О, протокол совещания – это великая вещь! Это лакмусовая бумажка, культурный код, рентген корпоративной иерархии. Если вы хотите понять, чем на самом деле дышит компания, забудьте про ее миссию на сайте. Запросите протоколы совещаний с разных уровней. И вы увидите четыре стадии разложения организма.
Первый уровень. Земля. Протокол-инструмент.
Здесь, внизу, где делается реальная работа, протокол еще жив. Он служит своей изначальной цели: зафиксировать договоренности, чтобы не забыть. Это рабочий инструмент, как молоток или гаечный ключ. Руководитель отдела собирает своих, вы обсуждаете проблему, и секретарь или самый ответственный сотрудник строчит пункты: «Иванову – сделать то-то к среде, Петрову – посчитать это к пятнице». Здесь протокол – это не средство контроля, не дубина для наказания. Это якорь. Точка, к которой можно вернуться, чтобы свериться с курсом. Это честный, рабочий документ живых людей.
Второй уровень. Столичные наместники. Протокол-призрак.
Ты поднимаешься выше. Уровень заместителей генерального директора, вице-президентов, руководителей огромных функций. И здесь происходит чудо. Протоколы исчезают. То есть совещания есть, крика на них еще больше, а протоколов нет. Потому что на этом уровне обитатели Олимпа усвоили главное правило выживания: подпись – это клеймо. Любая зафиксированная на бумаге ответственность – это потенциальная гильотина. Зачем? Зачем оставлять следы? Гораздо проще дать устные, часто взаимоисключающие поручения, а потом, в случае провала, заявить: «Я не это имел в виду. Меня неправильно поняли».
Этот «двор» в кавычках, вся эта свита, которая окружает первое лицо, доводит искусство бюрократического айкидо до совершенства. Они не ведут своих протоколов. Они фигурируют только в одном документе – в протоколе самого главного босса, Президента или Генерального. Только там их фамилия появляется напротив задачи. И это – единственный документ, который они боятся и исполняют. Все остальное – лишь сотрясание воздуха.
Третий уровень. Инициатива снизу. Протокол-плач.
Но свято место пусто не бывает. Протоколы все-таки рождаются. Их рожают отчаявшиеся. Носители реальной проблемы. Сотрудники, которым нужно решить сложную, кросс-функциональную задачу. Они видят, что система парализована. Что вице-президенты никогда не договорятся между собой. И тогда они совершают героический и абсолютно бессмысленный поступок. Они собирают огромное совещание, приглашая людей из десяти разных департаментов. Они два часа рассказывают о своей боли, пытаются что-то изменить. А потом рассылают всем участникам подробный протокол с кучей ответственных.
И весь офис, получив этот документ, тихо хихикает. Потому что все понимают: этот протокол – не документ. Это крик души. Он не имеет никакой силы. Какой-то сотрудник из финансового отдела не может указывать мне, маркетологу, что делать. У меня свой начальник. И пока мой начальник не получит команду сверху, этот протокол для меня – макулатура. Так и рождаются эти бесконечные двух- и трехлетние эпопеи по «внедрению», «улучшению» и «оптимизации», которые заканчиваются ничем. Это симуляция бурной деятельности, ритуальный танец, который все исполняют, зная, что дождя все равно не будет.
Четвертый уровень. Вершина. Протокол-приговор.
И, наконец, вершина пищевой цепочки. Аппарат Президента компании. Здесь протокол снова обретает свою первобытную, сакральную силу. Но это уже не инструмент. Это скрижаль, выбитая в камне. Каждый пункт протокола совещания у Генерального – это закон. Его не обсуждают, его исполняют. Потому что неисполнение – это карьерная смерть. И весь гигантский механизм корпорации работает только на одно: на подготовку этих совещаний и на исполнение этих протоколов. Вся энергия среднего звена уходит на то, чтобы правильно «подсветить» успехи и «упаковать» проблемы для доклада наверх.
Этот феномен – не просто частный случай. Это универсальный закон вырождения сложных систем, вирус, который поражает гигантов в момент их наивысшего могущества. И лучшей иллюстрацией этой болезни служит не политическая система, а трагедия технологического колосса. История падения компании Nokia.
В середине 2000-х Nokia была не просто лидером. Она была синонимом мобильного телефона. Ее рыночная доля была больше, чем у нескольких следующих конкурентов вместе взятых. В ее исследовательских центрах работали гении, которые создали прототипы смартфонов с сенсорным экраном, AppStore и мобильным интернетом за годы до того, как мир узнал слово «iPhone». У них было всё: деньги, инженеры, бренд, дистрибуция. И они умерли. Они умерли не потому, что у них не было технологий. Они умерли, потому что их корпоративная культура превратилась в «ледяную планету».
Внутренние расследования и книги о крахе Nokia рисуют картину, до боли знакомую. Компания была разделена на враждующие княжества: отдел операционной системы Symbian воевал с разработчиками новой ОС Maemo. Менеджеры среднего звена, находясь под диким давлением KPI, боялись докладывать наверх плохие новости. Любой, кто говорил, что громоздкий Symbian проигрывает чистому и простому iOS, рисковал карьерой. Система была настроена не на поиск истины, а на поддержание иллюзии благополучия.
Совещания в Nokia превратились в театр. Вместо того чтобы решать, как ответить на вызов Apple, департаменты сражались за бюджеты и влияние. Решения тонули в бесконечных согласованиях. Ни один вице-президент не хотел брать на себя ответственность за рискованный шаг, например, за полный отказ от устаревшей, но все еще приносящей доход Symbian. Подписать такой «протокол» означало бы поставить на кон свою карьеру. Гораздо безопаснее было делать то, что они делали всегда: выпускать сотни почти одинаковых моделей телефонов, понемногу улучшая старое. Они стали мастерами уклонения от ответственности. И пока они вели свои аппаратные войны, Apple и Google просто забрали у них рынок. Они умерли от тысяч подписанных и не подписанных протоколов.
История Nokia не уникальна. Она до боли напоминает другую великую трагедию, случившуюся за тридцать лет до этого в тихой и благополучной Швейцарии. В 1968 году швейцарские часовщики контролировали 65% мирового рынка и 80% прибыли. Они были королями. Их механические часы были чудом инженерной мысли, символом статуса и вековых традиций. И в том же году на конгрессе часовщиков они с вежливым презрением посмотрели на странный, уродливый прототип, представленный инженерами Seiko. Это были кварцевые часы. Неживые, бездушные, работающие на батарейке. Швейцарцы посмеялись и вернулись к своим шестеренкам.
Они совершили классическую ошибку гиганта. Они думали, что продают «искусство измерения времени», в то время как мир захотел просто «знать, который час». Они были настолько ослеплены собственным совершенством, что не заметили, как изменились правила игры. За десять лет швейцарская доля рынка рухнула ниже 10%. Десятки тысяч людей потеряли работу. Это был их личный «момент iPhone». Nokia, как и швейцарские часовщики, умерла не от недостатка технологий, а от избытка гордыни. Их корпоративная культура превратилась в музей, который отказался замечать, что мир за его стенами изменился.
Почему умные, когда-то амбициозные люди добровольно надевают на себя эти кандалы? Причина в явлении, которое можно назвать «Ловушкой статуса». В определенный момент карьеры для менеджера главной целью становится не достижение результата, а сохранение своего положения. Его идентичность смещается. Он перестает быть «создателем продукта» или «покорителем рынка» и становится «вице-президентом». И как только это происходит, его система принятия решений переворачивается. Главный вопрос для него теперь не «Что лучше для бизнеса?», а «Что безопаснее для моей должности?». Отказ от подписи, передача ответственности, размытые формулировки – это не признаки глупости. Напротив, это высшее проявление рациональности, направленной на решение одной-единственной задачи: удержаться в кресле. Система начинает работать не на внешний мир, а на саму себя, пожирая собственный смысл.
И это приводит нас к самому страшному последствию. К потере радости. Помните это чувство в институте, когда вы решали сложную задачу? Ты сидишь, мучаешься. И вдруг – щелчок! Ты находишь элегантный, короткий путь. В этот момент тебя накрывает волна чистого, незамутненного кайфа. Это дофаминовый взрыв от решенной проблемы. Этот же кайф ты ловишь в бизнесе, когда выводишь на рынок новый продукт. Ты решил сложную задачу, и у тебя есть осязаемый результат.
А теперь вернемся на нашу «ледяную планету». Там этого нет. Там нет задач, которые можно «решить». Там есть только политические процессы, которые можно «пережить». Это и есть «мартышатник», как гениально назвал его один из моих руководителей. Бесконечные ужимки и прыжки на жердочках иерархии. Цель – не допрыгнуть до банана (результата), а просто не упасть вниз.
В такой среде нет места творчеству. Поэтому и продукты, которые рождаются в таких системах, – мертвые. Они – результат не вдохновения, а компромиссов. Они такие же пустые и холодные, как и коридоры, в которых принимались решения об их создании. Это мир, где выживание подменило собой жизнь.
Так что же, смириться и заморозить собственную душу в этой вечной мерзлоте? Нет. Если нельзя изменить климат планеты, нужно научиться жить на ней, построив герметичный скафандр здравого смысла. Нужен свой кодекс выживания, своя личная «прививка от глупости».
Кодекс выживания на ледяной планете
Это не набор правил, как сделать карьеру. Это набор правил, как сохранить себя.
Станьте мастером защитного протокола. Если система говорит на языке бумаги, вы должны говорить на нем лучше всех. Но не для того, чтобы что-то изменить – это наивно. А для того, чтобы защитить себя. После каждого устного поручения от «безпротокольного» начальника пишите короткое письмо-резюме: «Уважаемый Иван Иванович, во исполнение нашего разговора правильно ли я понял, что задача состоит в… Срок такой-то. Спасибо». Это не агрессия. Это гигиена. Вы не заставляете его подписываться, но вы создаете бумажный след. В 90% случаев это спасет вас от фразы «я не это имел в виду».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.