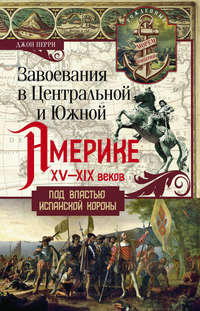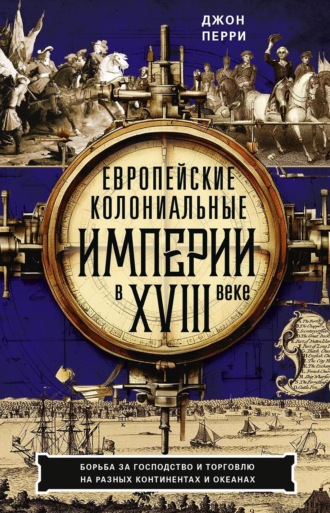
Полная версия
Европейские колониальные империи в XVIII веке. Борьба за господство и торговлю на разных континентах и океанах
Некоторые испанцы, а чаще индейцы сами разрабатывали маленькие месторождения вручную, но типичный добытчик серебра был достаточно крупным капиталистом. Для измельчения руды и извлечения серебра, как правило с помощью ртутного амальгамирования, требовался большой – по меркам того времени – завод. В Перу имелись свои запасы ртути, шахты древних инков в Уанкавелики, обстоятельство, которое очень сильно способствовало процветанию Потоси. В Новую Испанию ртуть иногда завозили из Уанкавелики по морю, но чаще она получала поставки из Испании. Ртуть, которую приходилось возить в неудобных кожаных мешках, сама по себе была жизненно важным и прибыльным видом торговли и, естественно, предметом постоянного государственного интереса и регулирования. Помимо ртути шахтеры нуждались в устойчивых поставках крупного рогатого скота, который, оставаясь на своих ногах, являлся самым удобным источником еды, кожи и сальных свечей. Им нужно было большое количество мулов, чтобы подвозить поставки к месторождениям и увозить оттуда серебро. Таким образом, добыча серебра и скотоводство были взаимодополняющими. Но прежде всего шахты нуждались в рабочих руках, как тех, которые работали киркой и лопатой, так и в умелых руках ремесленников. Ремесленников можно было привлечь высокой платой, но необходимыми навыками могли овладеть индейцы, и значительная часть работы делалась ими. Проблему неквалифицированной рабочей силы решали частично за счет импорта негров-рабов, но большую часть этой работы тоже делали индейцы, которые хотя и получали плату за нее, но работали по принуждению. В других случаях использовалась система принудительных общественных работ, называвшаяся в Новой Испании repartimiento[9], а в Перу – mita, или совсем нелегальные действия частных вербовщиков.
Большая часть серебра, полученного на шахтах, отправлялась в Испанию, но много оставалось в Индиях. Из него чеканили монеты, которые тратились там же. И в Новой Испании, и в Перу богатства устойчивым потоком текли в столичные города, где они шли на оплату импорта из Европы и Китая и на развитие местного ремесленного производства. Шахтерские города, хотя и были оживленными и многолюдными, сохраняли характер временных образований и не становились крупными административными и социальными центрами. Они находились слишком далеко от моря и от контактов с Испанией и были слишком беспорядочными и некомфортными. Производство в Потоси контролировалось из Лимы, в меньшей степени – из Арекипы, месторождение в Сакатекасе – из Мехико и в меньшей степени – из Гвадалахары. Основными источниками богатства в Индиях – haciendas, ранчо и шахтами – часто владели одни и те же люди и почти всегда люди одного круга.
Эти богачи, многие из которых были потомками первых конкистадоров и поселенцев, вели свои дела через управляющих. Сами они большую часть года жили в столичных городах, основанных их предками.
В начале и середине XVII века взаимозависимая экономика шахт, ранчо и плантаций переживала долгий период депрессии в значительной степени из-за сокращения численности индейского населения и острой нехватки рабочей силы, но в конце XVII века производство и до некоторой степени население восстановилось. Добыча серебра, упавшая до минимума в период с 1650 по 1660 год, в 1690-м приблизилась к уровню 1580-х и продолжала расти. Рост был неравномерным и в основном приходился на новые месторождения на севере Новой Испании, в то время как производство на Потоси продолжало снижаться. Однако в целом испанские экономисты правы, считая, что экономика Индий, несмотря на скверные условия, в которых жили многие их обитатели, была более оживленной, чем экономика самой Испании. Все меньше и меньше серебра, добытого в Америке, действительно попадало в Испанию. Для испанских государственных мужей было проблемой обеспечить, чтобы Испания, сама пребывавшая в депрессии, голодная, разоренная чередой эпидемий и обескровленная повторявшимися неудачными войнами, участвовала и получала прибыль от растущего производства Индий.
Официальная политика Испании в сфере налоговых взаимоотношений между короной и колониями была прямой и примитивной. В ней не было почти ничего от хитросплетений возникшей в то время теории меркантилизма. Она не отстаивала ценность колоний как источника тропических товаров для реэкспорта в Европу или как рынка сбыта для испанских производителей. Она просто предполагала, что раз королевства Индий являются подданными короля Кастилии, их долг – платить ему дань. Испанская корона намеренно и открыто облагала налогами своих колониальных подданных, чтобы покрыть свои расходы в Европе. Доход составляли в основном не пошлины на трансатлантическую торговлю – хотя эти пошлины существовали и были достаточно суровыми, – а налоги, собираемые непосредственно в Индиях: alcabala – налог с продаж, проценты, начисляемые со всех операций продажи и покупки; quinto – налог на серебро, взимаемый по фиксированной ставке, [обычно] равной одной пятой валового продукта, который собирался с шахт в форме слитков; индейский tributo – старый и, очевидно, дискриминационный подушный налог, первоначально собиравшийся в натуральном выражении для поддержания испанской общины, но уже давно бравшийся серебром. Средства, полученные от этих и других налогов, после удержания некоторых заранее согласованных сумм на покрытие расходов по управлению колониями должны были переводиться в серебро и отправляться в Испанию. Согласно правилам трансатлантического судоходства, безопасная доставка слитков являлась первейшей заботой государства. Все остальные соображения, как то – мореходные, социальные, промышленные и коммерческие, всегда были подчинены этому.
В течение многих лет политика испанского правительства была направлена на ограничение торговли между Европой и Индиями официально организованными флотилиями, сопровождавшимися эскортом. Полагалось, чтобы каждый год в конце весны или в начале лета два таких конвоя выходили из Кадиса. Галеоны направлялись в Портобело на Панамском перешейке, где их грузы продавались и перевозились по морю в Перу, flota шла в Новую Испанию. Флотилии сопровождались военными кораблями, чтобы защитить грузы от пиратов в мирное время и от врагов во время войны, а на обратном пути привезти королевские слитки. Стоимость конвоя покрывалась за счет специальной пошлины на перевозимые товары. Обе флотилии зимовали в Индиях: flota – в Сан-Хуан-де-Улуа, галеоны – в Картахене. Обе этих гавани были хорошо защищены. В начале следующего года они следовали в Гавану – еще один хорошо защищенный порт, откуда выходили вместе по возможности в июне до начала сезона ураганов и через Флоридский канал направлялись в Испанию.
История флотилий компании Carrera de Indias была долгой и славной. В начале XVII века она собирала большие флотилии и иногда делала более ста рейсов, но к концу века законная торговля сократилась, а вместе с ней и флотилии. Теперь в хороший год компания делала всего 10–12 рейсов.
Случались годы, когда не было ни одного. Право фрахтовать суда для отправки в Индии имела лишь небольшая группа чрезвычайно респектабельных консервативных андалузских торговых домов, связанных с consulado – купеческой гильдией Севильи. Их представители заключали сделки на ярмарках в Халапе и Портобело с представителями аналогичных фирм, иногда родственниками и компаньонами, объединенными в такие же consulados Мехико и Лимы. У них не было личной заинтересованности в расширении торговли, поскольку, как большинство подобных монополистов, предпочитали продавать ограниченное заранее известное количество промышленных товаров на защищенных рынках по высоким ценам, которые поддерживались искусственно. В конце XVII века из-за неконкурентоспособности испанской промышленности и трудностей транспортировки товаров из промышленных центров Испании в Кадис большая часть отправляемых в Индии грузов были иностранными, в основном французскими, а испанские грузоотправители часто действовали просто как агенты. Назад они везли некоторое количество колониальных товаров, но, хотя на деньги от продажи одной партии промышленных товаров можно было купить несколько партий шкур или сахара, грузовместимость флотилий позволяла взять лишь очень ограниченное их количество. Кроме того, уровень потребления их испанской промышленностью был очень низким. В основном обратные рейсы везли серебро, большая часть которого (как и большая часть королевского серебра) по прибытии в Испанию сразу же отправлялась за рубеж.
На практике эти флотилии никогда не были монополистами на рынке. Много серебра утекало через мелкие порты Индий в уплату за товары, привозимые контрабандой на иностранных кораблях, иногда французских, иногда голландских, но чаще всего английских. В нормальное время незаконные торговцы обычно держались в стороне от крупных гаваней, но даже в более мелких им иногда приходилось торговать под защитой оружия, используя в дополнение к обычным взяткам демонстрацию силы, реальной или фиктивной, чтобы убедить местных чиновников смотреть сквозь пальцы на их деятельность. В непосредственной коммерческой конкуренции с официально лицензированными продавцами они обладали всеми преимуществами, поскольку не платили пошлин и могли продавать свои товары дешевле. Кроме того, на обратном пути с готовностью брали больше сахара, шкур и всего, что можно было выгодно продать на севере Европы. По мере того как официальные флотилии сокращались, контрабандная торговля расширялась. В то же время расходы на управление и защиту колоний неуклонно росли, и, следовательно, в Испанию поступала все меньшая и меньшая часть из собранных там налогов.
Испанцы всегда были одними из самых суровых критиков Испании. В прошлом испанские авторы часто нападали на колониальную политику Испании, но обычно на том основании, что она была несправедливой. В конце XVII и начале XVIII века критики стали более склонны сетовать, что ей недостает экономической изощренности. Не трудно было в соответствии с меркантилистскими принципами осуждать излишние самоубийственные ограничения торговли и неспособность поощрять промышленность метрополии. Многие писатели, такие как Мартинес де Мата, Устарис, Ульоа и Кампильо – это если называть только самых выдающихся, – делали это решительно и согласованно. Другое дело было обеспечить эффективные действия. Королевства в Индиях даже в лучшие времена не могли похвастаться хорошим администрированием. Их физическая недоступность в сочетании с патрицианским индивидуализмом руководителей наделяли их поразительной способностью к пассивному сопротивлению давления не только непрошеных иностранцев, но и их собственных суверенов. Подотчетный королю Совет Индий в качестве центрального правительства был осторожным и медлительным совещательным юридическим органом, неспособным на серьезные инновации, не подкрепленные решением короля. Карлос II, со своей стороны, не только не обладал способностями к эффективному управлению, но даже не понимал связанных с этим проблем. Однако нельзя сказать, чтобы его преемник Бурбон, несмотря на все хорошие советы, которыми его засыпали французы и офранцузившиеся испанцы, оказался более способным и вдохновляющим лидером. Действительно, в некотором смысле во время царствования Филиппа V дела пошли еще хуже как следствие разрушительной войны за престолонаследие и нарушение коммуникаций, которое она вызвала. Условия решительно сформулированного Proyecto para galeones y flotas 1720 года, предполагавшего восстановить ежегодные конвои, нарушенные во время войны, оказались невыполнимыми. Казалось, контрабандисты все больше и больше завоевывали позиции. В начале 1740-х годов Кампильо по-прежнему писал: «Такими высокими пошлинами, такими ограничениями фрахта и другими препятствиями мы, можно сказать, закрыли дверь в Индии для испанских производителей и пригласили все остальные нации поставлять в испанские владения свои товары, поскольку эти провинции должны откуда-то снабжаться, и им открыт каждый порт на побережье, протяженностью четырнадцать тысяч лиг».
Некоторые патриотично настроенные испанцы, анализируя ситуацию в империи в целом, а не только с точки зрения ее экономики, испытывали чувство, близкое к отчаянию. Маканас дошел до того, что в традициях Лас Касаса задался вопросом о праве Испании управлять Индиями. В своем горьком «Завещании Испании» он обличал несправедливость и тиранию, а также управленческую некомпетентность и экономическую леность. То же самое, но менее красноречиво делали Хуан и Ульоа, два умных впечатлительных молодых офицера военно-морского флота, которых в 1735 году отправили в Южную Америку с научной миссией и которые написали конфиденциальный отчет об управлении провинциями, где побывали. Иностранные авторы, хотя и с алчным ликованием отмечали имперские трудности Испании, часто бывали более объективны в своих отзывах. «Один английский купец» (Джон Кемпбелл), будучи проницательным – хотя его определенно нельзя назвать незаинтересованным – наблюдателем (он старался склонить свое правительство к проведению более агрессивной антииспанской политики), вероятно, был недалек от истины, когда писал: «Слабость испанцев – это, собственно говоря, слабость их управления. Дело не в людях и не в слабости обороны там, где губернаторы и другие королевские чиновники не заинтересованы в исполнении своего долга…» Этот автор приводит перечень нападений иностранцев на испанские колониальные владения, часть которых были успешными, но другие отбиты благодаря решительному местному сопротивлению, и заключает: «Итак, кажется бесспорным, что не так слабы сами испанцы, как их власти, которые в тех случаях привели их к потерям».
Короче, испанцы, хотя и не могли занять всю Америку, заняли и по-прежнему стремились монополизировать ее самые лакомые части. Смысл недовольства иностранцев сводился к тому, что они занимали намного больше территории, чем могли эффективно использовать и развивать. Некоторые завистливые и кровожадные иностранцы добавляли к этому, что испанцы заняли намного больше, чем правительство их метрополии могло администрировать и защищать.
Глава 2. Южная Атлантика и Вест-Индия
Испанская империя в Америке была морской империей только в том смысле, что связь между колониями и метрополией могла осуществляться только по морю. Сама Испания являлась морской державой, хотя в конце XVII века несколько ослабевшей, но королевства Индий были королевствами суши, главные центры которых находились в глубине континента. Их жители не питали большого интереса к морю. Корабли компании Carrera de Indias иногда строились в Индиях, в частности в Гаване, но это случалось намного реже, чем было 50 или 60 лет назад, и их владельцы, как и их команды, редко бывали местными. Длительный королевский запрет на торговлю между колониями был не нужен, поскольку ее почти не существовало. Торговля между побережьями Мексики и Перу, процветавшая в XVI веке, в XVII веке замерла. Среди жителей как европейцев, так и коренных было слишком мало моряков. Главные опасности, угрожавшие испанским обитателям Индий, шли с моря. Они боялись его и потому, если могли, поворачивались к нему спиной. Своей сравнительно спокойной жизнью в течение двухсот лет они были обязаны своей территориальной труднодоступности.
Португальская империя, напротив, представляла собой империю береговой линии и гаваней. Все ее основные поселения были видны с моря. Все они зависели от безопасности и процветания морских связей не только с Португалией, но и друг с другом. Это была настоящая морская империя, что, конечно, не значит, что все люди, которые селились, защищали и управляли португальскими заморскими владениями, обязательно были мореходами. Профессиональными моряками в Португалии, как и в Испании, обычно становились люди скромного социального положения, в то время как военная служба была традиционным занятием людей благородного происхождения, которых не удовлетворяла жизнь в своих поместьях. В XVI и XVII веках в Португалии, как и в Испании, успешными адмиралами становились хорошо обученные военные, которые помимо всего прочего знали науку навигации и науку ведения морского боя. Однако, в отличие от испанцев, географические особенности сделали португальцев, живущих за морем, намного более зависимыми от этих знаний и опыта. Большая часть их первых поселений располагалась в местах, где тыл был куда более недружелюбным и угрожающим или контролировался вождями, враждебно настроенными к проникновению европейцев и достаточно сильными, чтобы препятствовать этому. Самые большие опасности угрожали их фортам и факториям со стороны суши, а подкрепления шли со стороны моря. В море, если, конечно, не считать угроз, которые представляло само море, они могли чувствовать себя в безопасности, поскольку ни одно азиатское или африканское княжество не имело кораблей и корабельных орудий, равных тем, которые были у них.
В XVII веке эта безопасность в значительной степени исчезла. В период политического союза с Испанией, длившегося с 1580 по 1640 год, португальские владения стали законной добычей многочисленных врагов Испании без реальной поддержки с ее стороны. На побережье и в гаванях, где торговля долгое время была монополией португальцев, появилось огромное количество хорошо вооруженных европейских буканьеров и конкурентов. Португалия несла большие территориальные и морские потери, и ее заморская торговля заметно сократилась. Но кое-что удалось компенсировать. В частности, лиссабонские компании, занимавшиеся работорговлей, сильно выиграли, получив в рамках asiento[10] доступ на невольничьи рынки Испанских Индий. Однако в целом союз с Испанией в сознании португальцев ассоциировался с унижением и потерями, а национальная независимость – с коммерческой выгодой и имперскими успехами. Вполне естественно, что, когда в 1640 году была восстановлена независимая монархия под эгидой дома Браганса, корона и ее самые видные подданные и в Португалии, и за морем предприняли решительные меры по восстановлению, насколько возможно, утраченных владений и связей, а также развитию и укреплению тех, которые сохранились. Они добились заметных успехов в отношении флота и коммерции, но эти успехи, как и предшествовавшие им потери, означали радикальный сдвиг экономических приоритетов в структуре Португальской империи. Они не коснулись изначальных областей португальской агрессии на побережье Гвинеи или на Востоке. Все касались Южной Атлантики.
В Гвинее все основные португальские торговые фактории – Элмина с ее большой крепостью, Аксим, Гори вблизи современного Дакара на южном изгибе Зеленого Мыса – были захвачены голландцами в 1630-х годах, и Португалия так никогда и не вернула их. Единственным пятачком, который им удалось сохранить в Верхней Гвинее, были Бисау и Качеу – две отдаленные гавани в той неблагоприятной местности, которая с тех пор называется Португальской Гвинеей, труднодоступной со стороны моря из-за опасного барьера островов Биссагос. С другой стороны, в Анголе португальцы быстро вернули себе то, что потеряли. Главные порты работорговли Луанда и Бенгела, которые в 1641 году захватили голландцы, были возвращены в 1648-м флотилией под командованием грозного морского воина и колониального предпринимателя Сальвадора Коррейа де Са, занимавшего пост губернатора Рио-де-Жанейро. Почти одновременно с этим в 1645 году на севере Бразилии в Пернамбуку вспыхнуло решительное восстание португальских обитателей, получивших поддержку из Баии. Все это происходило как раз в то время, когда голландцы приближались к морской и коммерческой войне с Англией. Несмотря на то что Португалия не могла сравниться с Нидерландами по богатству и военно-морским силам, голландская Вест-Индская компания не смогла в должной мере поддержать власти Бразилии. В конце концов в 1654 году голландцы были изгнаны. В 1674 году их компания обанкротилась. Таким образом, что касается европейцев, то побережье Южной Атлантики от Амазонки до Рио-де-ла-Платы и от островов Сан-Томе и Принсипи до мыса Доброй Надежды (не считая маленького голландского поселения на самом мысе) досталось португальцам.
В конце XVII века, как и в конце XV века, независимая Португалия была маленькой страной с небольшой плотностью населения и скудными природными ресурсами. Ее богатство в основном шло от добычи морской соли, продукта, который продавался по всей Западной Европе, и в меньшей степени от винокурен долины Дору, хотя это производство стало доходным ближе к концу XVII века, когда портвейн нашел большой и прибыльный рынок сбыта в Англии. Стране не хватало зерна, и ей часто приходилось импортировать балтийское зерно, привозимое на голландских кораблях. Поскольку соль для заготовки сельди была так же необходима голландцам, как португальцам зерно, эти страны вели постоянную торговлю друг с другом даже в самый разгар войны. Помимо зерна в Португалии не хватало мяса. Основным источником белка в рационе португальцев была рыба, что создавало рискованную зависимость и требовало мужества и предприимчивости, поскольку берега Португалии круто обрываются вниз, а протяженность континентального шельфа недостаточна, чтобы обеспечить благоприятные условия для рыбного промысла. Необходимость чем-то дополнить сардины, добываемые в прибрежных водах Португалии, стала основной причиной, первоначально заставившей португальских моряков пуститься в дальний путь вдоль побережья Мавритании за тунцом или в сторону Исландии и Ньюфаундленда за треской. В XVII веке эта необходимость оставалась такой же острой, как и раньше. Не считая их соперников, голландцев, никто из европейцев не зависел от моря больше, чем португальцы. И ни один народ так настойчиво не тянуло к морским авантюрам, которым рыбный промысел обеспечивал непрерывный поток хорошо подготовленных суровых моряков. В XVII веке ни одна корона в Европе – даже корона Испании – так сильно не зависела от доходов, прямо или косвенно полученных от ресурсов заморских колоний, и ни в одной стране не было такого дисбаланса между ресурсами метрополии, с одной стороны, и коммерческими обязательствами и имперскими обязанностями – с другой.
В погоне за доминированием и в ходе торговли экзотическими товарами португальцы сверх всякой меры развили в себе качество, которое один видный бразильский социолог назвал «улиссизм». Это не просто тяга к путешествиям, готовность искать новые места, эмигрировать и селиться там, но и способность адаптироваться к незнакомому окружению. Португальские колониальные торговцы, эмигранты и чиновники больше любых других европейцев демонстрировали способность договариваться с тропиками. Она проявлялась не только в спокойном отношении к межрасовым бракам и быстрому росту смешанного населения (в этом португальцы были не одиноки), но и в быстром восприятии тропических культур как пищи для ежедневного употребления, так и в качестве товарных культур, выращиваемых на продажу в других далеких местах, а также в изобретательном приспособлении европейской архитектуры к тропическим условиям и в принятии местных порядков и удобной свободной одежды коренных обитателей. Вероятно, можно вместе с Жилберто Фрейрем говорить о лузо-тропической культуре, но едва ли о испано- или англо-тропической. Испанцы действительно в достаточно большом количестве эмигрировали в тропики, но они селились по возможности в высокогорных или умеренных областях, где, по меньшей мере в некоторых, как, например, в Центральной Мексике, им удавалось найти определенное физическое сходство с meseta[11], откуда они приехали. Они были достаточно консервативны в вопросах пищи и одежды. Что касается выходцев из Северной Европы, то они были готовы жить только в местах, где климат, растительность и сельскохозяйственные возможности походили на те, которые существовали в Европе. Большинство из них считали, что «туземная» одежда оскорбляет их европейское достоинство. Португальские эмигранты, со своей стороны, – отчасти потому, что у них было меньше возможностей проявлять свои амбиции, – принимали жизнь в тропиках и даже во влажных низменных тропиках с решимостью и энтузиазмом первопроходцев, гордых своим новым домом.
Многосторонность и способность португальцев адаптироваться позволили им успешно осуществить несколько различных и весьма разнообразных предприятий (хотя почти все в тропиках) и переносить свои усилия с одного на другое в соответствии с меняющимися экономическими и политическими условиями. В конце XVII века, когда они лишились торговли в Гвинее, были потеряны Цейлон и Малаккские острова, а Гоа пришло в упадок, внимание короны, купцов и эмигрантов сосредоточилось на Бразилии, в особенности на северо-восточных районах Баии и Пернамбуку, суровой, но продуктивной местности, где, правда, не было молочных рек и меда, зато был ром и сахар. Когда первый король династии Браганса Жоао IV называл Бразилию своей vacca de leite[12], он имел в виду доход от торговли сахаром. В XV веке сахар был для европейцев редким «наркотиком» или специей; в XVI веке – подсластителем для вина или ингредиентом кондитерских изделий, знакомым как минимум богачам. В XVII веке он стал широко распространенной роскошью, стоившей недешево, но его твердые темные кусочки можно было купить в розничных магазинах большинства городов Европы. И в большой степени это было достижением португальцев. Португальская Мадейра, португальский Сан-Томе, португальская Бразилия поочередно становились главным источником сахара для Европы. Мадейра была слишком маленькой, чтобы снабжать быстро растущий рынок; Сан-Томе сошел с гонки в начале XVII века из-за серии восстаний рабов. Но Бразилия была огромна, ее плодородные прибрежные земли при изобилии воды для орошения, казалось, могли обеспечить неограниченное количество сахара для продажи по всей Европе.