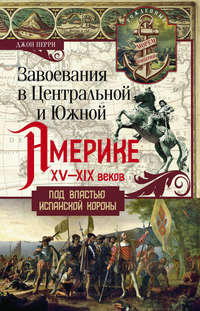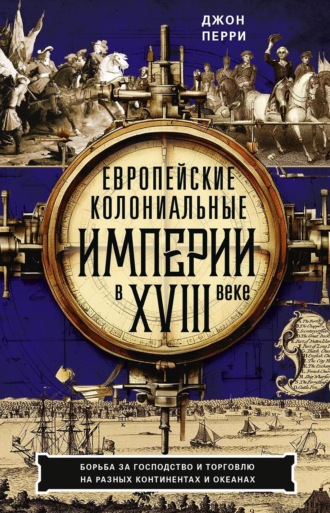
Полная версия
Европейские колониальные империи в XVIII веке. Борьба за господство и торговлю на разных континентах и океанах
В Старом Свете европейцы сосредотачивали свои усилия в регионах, издавна известных производством ценных товаров. Их главной целью была торговля в смысле приобретения экзотических товаров для продажи в Европе. Создание сухопутной империи какого-либо существенного масштаба было им не по силам, даже если они предпринимали серьезные попытки это сделать. В Западной Африке, служившей источником золота, слоновой кости и рабов, климат и растительность не способствовали появлению европейских поселений на побережье, а местные правители, стремившиеся вести торговлю и исполненные решимости монополизировать ее, были достаточно сильны, чтобы не допустить проникновения европейцев вглубь континента. На Востоке европейцы встретились с многочисленными цивилизованными народами, организованными в хорошо вооруженные государства. Здесь не могло идти речи ни о вторжении, ни о расселении в качестве резидентной аристократии. Сюда они приходили как вооруженные торговцы, иногда как пираты, постоянно враждующие между собой. Их влияние на великие империи Азии было очень слабым, как и влияние Азии на них. Их держали на расстоянии вытянутой руки. Правительство Китая, с его культивируемой высокоорганизованной официальной иерархией, едва снисходило до того, чтобы замечать этих неотесанных иностранных торгашей на реке Кантон. На территориях, подчиненных империи Моголов, различные группы европейцев обеспечили себе плацдармы в качестве живущих там купцов, вассалов, союзников и неких ненадежных наемников, в нескольких местах в качестве мелких местных правителей, но нигде в качестве сюзеренов. Прямых контактов с Персией было очень мало, за исключением тех, которые шли через голландскую факторию в Бандер-Аббасе. Среди более мелких княжеств, расположенных на южной оконечности Азии, европейские захватчики утверждались более эффективно, но даже здесь, если не считать небольшой области на юге Индии и восточноиндийских островов, в конце XVII века европейские владения ограничивались изолированными фортами и торговыми факториями. В XVIII веке эти «костыли» оказались не способны поддерживать быстро растущую торговлю. Европу захлестнула волна ориенталистской моды, агенты крупных торговых корпораций, по крайней мере некоторые из них, превращались в конкистадоров, и, чтобы поддержать или сдержать их, европейские правительства должны были прибегнуть к прямой интервенции.
В XVII веке деятельность, связанная с освоением удаленных территорий, и торговля с ними сопровождались ожесточенной конкурентной борьбой. Ею занимались подданные полудюжины национальных королевств, относившихся друг к другу с подозрением и завистью. В то время зарубежная торговля повсеместно рассматривалась как мягкая форма войны. Однако в XVII веке ни одно из этих королевств не обладало военно-морским флотом и верфями, подходящими для ведения продолжительной войны в далеких водах. Совершая набеги на корабли и порты или, немного позднее, стараясь захватить чужие плантации и фактории, обычно использовали помощников – приватиров и буканьеров[2], наемников и пиратов. И на Востоке, и в Вест-Индии любая банда головорезов, хищная деятельность которых могла послужить сиюминутным национальным интересам, с легкостью получала каперское свидетельство и обеспечивала себе поддержку того или иного колониального губернатора или президента фактории. В результате к середине века появились огромные территории диких неорганизованных конфликтов, по которым передвигаться с определенной уверенностью можно было либо тайком, либо хорошо вооружившись. В этом хаосе торговое судоходство и плантации разных наций страдали одинаково, и в последние два десятилетия века возникла всеобщая решимость формализовать колониальные конфликты. Владение и сецессия колониальных территорий начали оформляться официальными договорами, точно так же, как при территориальных изменениях внутри Европы. Английские, французские и голландские правительства постепенно принудили колониальных губернаторов сотрудничать с военно-морскими силами в деле подавления буканьеров. По правде сказать, иногда и сами военно-морские офицеры не брезговали пиратством, но постепенно практика использования пиратов для нападения на порты и суда других наций перестала считаться респектабельной формой международных отношений, даже в Вест-Индии. Это, конечно, не означало конец заморских столкновений между европейцами. Это просто означало, что самые ожесточенные столкновения официально поручили военно-морским силам и ограничили периодами формальной войны. В XVIII веке военно-морские флоты основных европейских держав пришлось весьма увеличить в размере и силе, а войны стали более частыми. На протяжении всего века колониальные владения были главным яблоком раздора в любой крупной войне и одним из главных призов при заключении каждого крупного договора. И то, что эпоха буканьеров сменилась эпохой адмиралов, для всей Европы стало знаком растущей важности заморских колоний и трансокеанской торговли.
Часть первая. Территории. Конец XVII столетия
Глава 1. Испанская америка
В конце XVII века Испанская империя в Америке существовала уже двести лет и была самой устоявшейся из европейских заморских империй, самой большой как по численности населения, так и по размеру территории и, по всеобщему убеждению, самой продуктивной (по крайней мере, потенциально) в смысле прибыли, которую приносила тем, кто распоряжался ее богатствами. Границы ее территории были по большей части неопределенными. Официально в своих формальных международных делах испанская корона заявляла о своем суверенитете над всей Америкой и своем исключительном праве на навигацию в Тихом океане и Карибском море, исключая те случаи, которые сама посчитает исключениями. Это заявление – несмотря на свою абсолютную невыполнимость и то, что оно выносилось на всеобщее обозрение, только когда считалось, что в опасности самые фундаментальные интересы Испании, – попрежнему было и еще долгое время оставалось базовым принципом испанской внешней политики. Однако к концу XVII века исключения, признанные явно или неявно, стали довольно многочисленными.
Из открыто признанных исключений самое большое и одновременно самое старое было сделано нечаянно в начале заселения Нового Света. Огромная часть территории Южной Америки, несомненно, лежала к востоку от демаркационной линии, установленной договором, заключенным в Тордесильясе в 1494 году, и, следовательно, что касается Испании, была зарезервирована за Португалией. Эта линия никогда не была и с учетом технических возможностей того времени не могла быть прочерчена по земле. Но, в общем, предполагалось, что она пересекает побережье где-то в болотистой необитаемой местности западнее дельты Амазонки, а на юге проходит где-то вблизи устья Рио-де-ла-Плата. В XVII веке спорная территория в низовьях Амазонки не имела большого значения, поскольку, хотя впервые по этой огромной реке испанцы проплыли в 1542 году, Испания не проявляла к ней большого интереса со времен Орельяны. Спорная территория на Рио-де-ла-Плата была более важной. Сама земля не имела большого значения. Действительно, она была практически необитаемой, не считая нескольких скотоводов, использовавших ее как пастбище для крупного рогатого скота. Там находилось два маленьких городка: испанский Буэнос-Айрес на правом берегу и португальский Сакраменто – на левом. К югу от Буэнос-Айреса на тысячу миль простиралась дикая индейская земля, не изведанная европейцами. Однако река имела большое значение в негативном смысле: она служила задней дверью в Верхний Перу, дверью, которую испанское правительство желало держать плотно закрытой и хорошо охраняемой. Некоторые бразильцы, например контрабандисты, хотели держать ее открытой, а португальские власти не желали отказываться от своих претензий на большой богатый скотоводческий район. Поэтому в конце XVII века и большую часть XVIII века левый берег реки был сценой постоянных столкновений между местными силами испанцев и португальцев. Монтевидео – первое официальное поселение испанцев на Банда Ориентал – был основан в 1729 году. В конце концов после многочисленных споров и настоящих боев в 1751 году соперники заключили соглашение о границе, базировавшееся отчасти на фактическом владении, отчасти на удобстве с географической точки зрения. В результате территория, в наше время носящая название Уругвай, досталась для колонизации испанцам, а не португальцам. Дальше вглубь суши граница была еще более неточной. Где бы ни проходила, она шла через не нанесенные на карту заросли, и испанское правительство справедливо подозревало, что намного западнее линии Тордесильяса по лесу шныряли bandeiras[3] из Сан-Паулу, охотившиеся на рабов, нападавшие на деревни иезуитских миссий и похищавшие индейцев. В конце концов захваченные ими места на территориях иезуитских «редукций»[4] были признаны португальскими по соглашению 1751 года, по которому границы Португальской Америки устанавливались примерно там, где проходят границы современной Бразилии.
В Карибском регионе признанные исключения из общего правила испанского суверенитета делались позднее, более скупо и, как правило, в результате войны. Мюнстерский договор 1648 года подтвердил права голландцев на владение островами Саба, Синт-Мартен, Синт-Эстатиус и Кюрасао. Эти крохотные кусочки земли имели малую ценность (или вообще никакой), если не считать того, что являлись торговыми станциями и базами для контрабанды, и, хотя первые три на момент прибытия голландцев были необитаемы, последний оккупировали испанцы, и его отобрали у них силой в 1634 году. Английские поселенцы в первой половине XVII века заняли ряд островов из числа Малых Антильских, на которых испанцев никогда не было. В 1655 году само английское правительство осмелело и предприняло совместный военно-морской и армейский штурм Испанской Вест-Индии, который был отбит в Санто-Доминго, но оказался успешным в отношении Ямайки. С военной точки зрения в нем не было большого подвига, поскольку испанское население там было малочисленным, бедным и плохо вооруженным, но он имел серьезные последствия. Остров стал прекрасной базой не только для контрабандистов, но и для разбойников, которые от примитивного бизнеса по краже одичавшего скота и продаже мяса и шкур вскоре перешли к более прибыльному грабежу испанских поселений во всем Карибском бассейне. Испания была не в том положении, чтобы пытаться отвоевать его, и в Мадридском договоре 1670 года ограничилась признанием английской оккупации взамен на то, что англичане примут меры для подавления буканьеров из Порт-Ройала. Но одно дело – обещать, другое – выполнить обещание. Гораздо проще было отречься от буканьеров, чем подавить их, тем не менее в 1680 году Виндзорский договор подтвердил и усилил договоренность. Голландцы – их власть в Америке заметно ослабела из-за войн с Англией и Францией – подписали аналогичную договоренность в рамках Гаагского договора 1673 года. Поскольку главным врагом для англичан и голландцев на Карибах все больше и больше становилась не Испания, а Франция, пираты стали для них скорее обузой, чем полезным ресурсом. Какое-то время французские адмиралы и колониальные губернаторы поощряли и нанимали большие банды, которые часто останавливались на острове Тортуга и в лесах на северо-западе Эспаньолы, но в конце концов тоже согласились (за деньги) подавить своих буканьеров. Упорное уничтожение одичавшего скота и расширение плантаций на территориях, которые изначально использовались пиратами для отдыха, способствовали процессу. Рисвикский договор 1697 года обозначил конец пиратства как серьезной политической и военной силы в этом регионе. По нему Испания передавала Санто-Доминго (Западную Эспаньолу) Франции. Таким образом, к концу XVII века Карибский регион был приведен в рамки нормальных европейских представлений о войне, мире и дипломатии. В мирные времена, по крайней мере, десятки жителей маленьких гаваней Карибского моря могли спать спокойно в своих кроватях. За этот покой Испании пришлось заплатить свою цену: передать несколько островов, признать иностранные поселения на многих других и публично объявить, что навигация и торговля в Карибском бассейне больше не являются испанской монополией.
В Тихом океане никаких подобных допущений не было сделано и никакой политической цены за безопасность выплачено не было. Нигде на берегах Тихого океана не было никаких европейских поселений, кроме испанских. Голландская Ост-Индская компания, на тот момент самая большая европейская сила на Ост-Индском архипелаге, не лезла в чужие дела и не поощряла желание своих капитанов совершать бесплодные океанские вояжи. Ни один европейский корабль не совершал регулярных рейсов в водах Тихого океана, за исключением испанских кораблей, участвовавших в торговле между Панамой и портами вице-королевства Перу, и знаменитых манильских галеонов, ежегодно курсировавших между Акапулько и испанскими поселениями на Филиппинах. Эти корабли, проходя на восток, делали остановку у берегов Калифорнии и шли дальше вдоль побережья, но никогда не подходили совсем близко и не пытались обследовать побережье, а тем более обосноваться там. Европейские картографы даже спорили, является ли Калифорния полуостровом или это остров. Если не считать этих регулярных испанских маршрутов, европейцы не только не плавали по Тихому океану, но даже не исследовали его. В XVII веке туда со стороны Атлантики время от времени заходили англичане. В 1669 году сэр Джон Нарборо командовал экспедицией, направлявшейся в Тихий океан, но, встретившись с сопротивлением испанцев, не продвинулся на север дальше Вальдивии. Иногда банды буканьеров пересекали Панамский перешеек, захватывали испанские суда, разоряли мелкие тихоокеанские порты и уходили таким же путем, каким пришли. В 1680 году один из таких пиратов, Бартоломью Шарп выкрал с испанского корабля секретную derrotero[5], собрание карт и описаний Тихоокеанского побережья, с помощью которых совершил длительный поход и в конце концов по морю вернулся в Вест-Индию. Он стал первым англичанином, обогнувшим мыс Горн. Его плавание, совершенное вскоре после подписания Виндзорского договора, вызвало большой переполох. Позднее некоторые из его людей были задержаны на Ямайке. Одного сделали козлом отпущения и повесили, но остальных задержанных простили и позволили им бежать. Сам Шарп отправился в Англию. Он хорошо понимал ценность своей добычи. «Испанцы, – писал он, – рыдали, когда я забрал эту книгу (теперь прощай Южное море)». Драгоценные карты были скопированы Уильямом Хэком из Уоппинга – бывшим пиратом или пиратским прихлебателем и хорошим рисовальщиком карт – и оформлены в красивый рукописный атлас «Путеводитель по великому Южному морю», который Шарп с непревзойденной наглостью преподнес Карлу II. В награду получил полномочия капитана военно-морского флота, но вскоре вернулся к пиратству. Успех Шарпа вдохновил других самостийных «приватиров» на новые амбициозные путешествия, самыми заметными из которых стали кругосветное путешествие Коули в 1683–1686 годах и странствия Дампира между 1679 и 1691 годами.
Однако эти экспедиции, какими бы тревожными и досадными они ни были для испанских властей, по-прежнему не выходили за рамки единичных набегов. Они не являлись проявлением согласованного стремления к организации торговли и поселений в южной части Тихого океана. До конца века никакое вторжение или угроза вторжения не ослабляло позиций Испании в этом регионе. Переход туда из Атлантики как через Магелланов пролив, так и вокруг мыса Горн был трудным и опасным. Южная часть Чили, как и Патагония, была неукрепленной и фактически необитаемой, если не считать «диких» индейцев – грозных араукан, но ее холодные сырые леса стали бы для непрошеных чужаков не более гостеприимными, чем для испанцев. Требование Испании не допускать иностранцев в Южную Америку, а иностранные корабли в Южное море было по-прежнему убедительным, и испанское правительство, полагаясь в плане защиты больше на географические факторы, чем на военные или военно-морские силы, не выказывало расположенности к компромиссу.
Восточная часть Северной Америки представляла собой самое большое неявное исключение из испанской монополии. С конца XVI века не делалось никаких серьезных попыток, ни силовых, ни дипломатических, предотвратить появление других европейских поселений на Атлантическом побережье. Обширные территории, занятые английскими поселенцами, никогда не были предметом переговоров с Испанией, хотя предполагалось, естественно, что они подпадают под условия договора 1670 года, по которому признавалось право на свободу судоходства между Англией и английскими колониями. Этот регион испанцев не интересовал. В начале XVII века даже шли разговоры, чтобы уйти из Флориды. Несмотря на ее непривлекательность и невыгодность, они оставались там из-за стратегической необходимости контролировать Флоридский канал, по которому должны были проходить восточные конвои. Крепость Сант-Августин на Атлантическом побережье была основана в XVI веке. В конце XVII века это место превратилось в обедневший военный форпост, содержавшийся за счет субсидий королевского казначейства Новой Испании. Не считая гарнизона, испанское население там было совсем малочисленным. Вдали от моря находилось несколько ранчо крупного рогатого скота, но сельское хозяйство почти отсутствовало, и не было ни одного города. Между Сант-Августином и самым южным английским поселением в Каролине лежала огромная территория, которая теперь стала Джорджией, а тогда была необитаемой, и которой в XVIII веке суждено было стать предметом спора. Западная Флорида, северное побережье Мексиканского залива было в основном необитаемым, хотя предпринимались действия, чтобы поселить там испанцев в противовес начинающимся попыткам французов установить контроль над долиной Миссисипи и создать поселения вблизи устья этой реки. Укрепление Пенсаколы за счет экспедиции, отправленной из Веракрус в 1697 году, стало ответом на планы французов по созданию поселения (оно все-таки было создано в 1718 г.) в Новом Орлеане. По тем же причинам делались попытки создать поселения на юге Техаса. Сан-Антонио был современником Нового Орлеана. Расположенный дальше на запад Нью-Мехико в течение ста лет являлся испанской провинцией с испанским губернатором. Поскольку эта провинция располагалась в стороне от путей незваных европейских гостей, то была слабо защищена, и в 1680 году широкомасштабное восстание индейцев народности пуэбло вынудило испанских ранчеро и поселенцев бежать вниз по течению Рио-Гранде в Эль-Пасо. В 1690-х началось силовое отвоевание, и к концу века осторожный систематический процесс создания миссий и presidios (пограничных блокгаузов, укомплектованных солдатами) все еще шел. Еще дальше на запад с 1687 по 1702 год вел свою замечательную работу по изучению и прозелитизму в Аризоне и Нижней Калифорнии иезуит-миссионер Эусебио Франсиско Кино. Время от времени возникали разговоры послать миссионеров в Верхнюю Калифорнию, но в конце XVII века к северу и к западу от presidios Нью-Мехико европейских поселений по-прежнему не было.
Преимущественное право Испании на приобретение целого континента было всего лишь формальной претензией, и в моменты реалистических просветлений даже испанцы относились к нему именно так. В провинциях, безусловно признанных испанскими, огромные горные массивы, леса и протяженные области побережья никогда не были заселены или просто исследованы. Непокорные и враждебные индейские племена жили на самом Панамском перешейке, в пределах досягаемости от основного «серебряного» маршрута из Перу в Испанию и от Портобело, где проходила крупнейшая в Америке торговая ярмарка. На побережье Никарагуа индейцы москито периодически вступали в союз с англичанами против испанцев. Маленькие группы английских поселенцев жили в лагерях, разбросанных по территории современного Белиза и Гондураса и в Блэк-Ривере[6], зарабатывая на жизнь тяжелым трудом по заготовке и продаже кампешевого дерева, использовавшегося в красильной промышленности. В XVIII веке эти жители залива стали причиной проблем, по масштабу несопоставимых с их численностью и ценностью торговли, которую вели. Периодически они получали поддержку от правительства Ямайки, и, несмотря на то что жили в глубине территории, принадлежавшей испанцам, вытеснить их оттуда не удавалось.
Список территориальных исключений, потерь и умолчаний был длинным и включал в себя огромные площади, но ему не следует придавать слишком большого значения. Иностранные поселения в поросших густым лесом областях побережья, присутствие иностранцев на необитаемых островах – и даже захват нескольких обитаемых – задевали испанскую гордость и представляли потенциальную опасность, но не катастрофу. Сами по себе реальные территориальные потери в XVII веке были сравнительно мелкими. Первые испанские конкистадоры и поселенцы сосредоточили свои усилия в районах, обещавших немедленный выигрыш. Это были плодородные земли, уже расчищенные от леса, не требовавшие от первопроходцев упорного труда и в изобилии снабжавшие их всем необходимым: едой, строительными материалами, текстилем для одежды, драгоценными металлами, сначала в виде артефактов, а в перспективе в виде полезных ископаемых, а также оседлым и покорным местным населением как источником необходимой рабочей силы. В конце XVII века регионы, которые изначально предоставляли все эти преимущества, по-прежнему являлись главными центрами проживания колонистов и сосредоточения основных богатств. Большей частью они находились либо в глубине суши под защитой горных массивов, либо далеко на Тихоокеанском побережье. Большие, труднодоступные и разбросанные далеко друг от друга, они казались слишком сложными целями для иностранных завоевателей. С точки зрения самой Испании они представляли проблему не столько для их защиты, сколько для обеспечения административного контроля.
Центральная и Южная Мексика (Новая Испания), Юкатан, Гватемала, Антигуа в той части, которая теперь является Колумбией, высокогорные плато и долины рек на побережье Перу, прибрежная равнина Центрального Чили – все это были области старых испанских поселений. Испанцы, всегда предпочитавшие городскую жизнь, концентрировались в городах, особенно в тех, где обитали вице-короли, или в столицах провинций, некоторые из них были по европейским стандартам достаточно большими, где имелось множество ремесленных мастерских и располагались цеховые организации ремесленников. Население этих городов было пестрым и состояло из европейцев, метисов, болееменее испанизированных индейцев и рабов-негров. Настоятельные потребности этих урбанистических центров определяли формы землевладения на территориях этих старых поселений. Значительная часть лучшей земли вошла в большие автономные поместья, которыми обычно владели испанцы-креолы и которые обрабатывали индейцы. Эти haciendas[7] производили большую часть продовольствия, потреблявшегося испанскими городами, а там, где позволял климат и транспортные возможности, значительное количество тропических продуктов на экспорт: сахара, какао, индиго, кошенили и табака. Разведение крупного рогатого скота и овец, которое было излюбленным занятием первых испанских поселенцев, на протяжении XVII века вытеснялось из наиболее густонаселенных районов. Под пастбища стали использоваться огромные площади открытой земли на севере Новой Испании, на равнинах Ориноко, и постепенно к концу века они приблизились к окрестностям Рио-де-ла-Плата. В ходе этой небрежной, сильно романтизированной операции мясо и жир считались сравнительно несущественными продуктами. Животные ценились в основном из-за своих шкур. Ни один товар не имел в западном мире больше вариантов использования, чем кожа. Она шла на сапоги, башмаки, верхнюю одежду, сумки, седла и упряжь. Значительная доля использовалась добывающей промышленностью Индий для изготовления насосов, кузнечных мехов, ковшей и приводных ремней примитивных механизмов. Большое количество экспортировалось в Европу. Уже одних шкур и тропических товаров было достаточно, чтобы обеспечить испанцам в Индиях умеренное процветание. Однако видом деятельности, на котором делались (и терялись) состояния, который придавал Индиям их специфический характер и важность, который вызывал зависть всей Европы, была добыча полезных ископаемых. Серебро в больших количествах – больших по меркам того времени – добывалось в Новой Испании и в Перу. Новая Гранада (современная Колумбия) производила небольшое количество золота, но это было сравнительно не важно. Именно серебро сделало Испанские Индии, по меньшей мере внешне, костылем для хромой экономики Испании и предметом зависти Европы.
При добыче серебра, в отличие от поверхностной разведки золота, требовалось копать, и по этой причине процесс был узко локализован. В условиях примитивной техники, отсутствия эффективных насосов шахтеры могли выкапывать глубокие шахты только в местах с малой опасностью затопления. С другой стороны, поскольку добыча полезных ископаемых требовала сосредоточения крупных рабочих ресурсов, ею невозможно было заниматься в пустыне, поскольку если еду можно за деньги перевозить на большие расстояния, то воду нельзя. В Новой Испании пригодные для эксплуатации шахты ограничивались достаточно узкой полосой земли на севере и северо-западе, в Новой Галисии. В этой области, находившейся в отдалении от испанских поселений, обитали примитивные воинственные кочевники, которым испанцы дали общее наименование – chichimecas[8], дикие люди. В XVII веке эти чичимеки обзавелись лошадьми и огнестрельным оружием. Их враждебность сделала жизнь шахтеров рискованной, а передвижение возможным только в составе хорошо вооруженных отрядов. Единственным важным исключением из общего правила был лагерь Гуанахуато, располагавшийся ближе к городу Мехико, чем старые шахты в Сакатекасе, рядом с которым находилась плодородная область Бахио. Но шахты в Сакатекасе были сильно подвержены затоплениям, и только в конце XVIII века достижения техники позволили эксплуатировать их богатые жилы в полной мере. В Перу соответствующий критический баланс между возможностью проживания и адекватным дренажем района добычи серебра был найден не в зоне полузасушливых холмов, а высоко в горах. Потоси – удивительная гора из серебра на территории современной Боливии – расположена на самой границе обитаемости, на высоте свыше 12 000 футов, где ручной труд как на поверхности земли, так и под землей тяжел и опасен. Но в период максимальной добычи плотность населения на единицу площади Потоси, вероятно, была самой большой в Испанских Индиях.