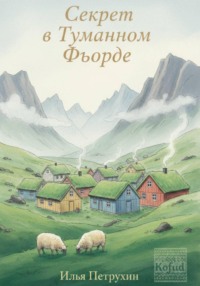Полная версия
Osovets. Книга 2. Shadow is coming

Илья Петрухин
Osovets. Книга 2. Shadow is coming
Глава 1
Июньское солнце, налитое зноем, врывалось в открытое окно, превращая небольшую комнатку Кирилла в подобие световой печи. Воздух стоял густой, неподвижный, пахший пылью, сургучом и терпкой остротой бессонной ночи. Казалось, самый свет здесь был иным – не живительным, а выжигающим, выхватывающим из полумрака не предметы, а их изможденные тени.
Комната более не была жилой. Она стала чертежной, святилищем одной-единственной мысли. Повсюду, на столе, на стульях, на грубо сколоченных полках, громоздились хаотические стопки бумаги. Испещренные формулами листы, потертые на сгибах карты с паутиной высотных отметок, полупрозрачные кальки, наложенные друг на друга, словно слои пророческой кожи, – все это сплеталось в причудливый лабиринт, понятный лишь одному человеку.
В эпицентре этого бумажного шторма, заваленный обломками собственных вычислений, сидел Кирилл. Он был почти неузнаваем. Юношеская мягкость черт окончательно ушла, уступив место резким, заостренным линиям. Под глазами залегли густые, сизые тени, будто отпечаталась усталость не одного дня, а всех тревожных недель, проведенных в крепости. Щеки впали, кожа натянулась на скулах. Но из этого осунувшегося лица с неистовой силой горели глаза. В них стоял тот же сосредоточенный огонь, что и в петербургской столовой, но теперь он был лишен юношеской отрешенности – его отточила ярость, упрямство и тяжелое знание цены ошибки.
Его правая рука, зажавшая не перо, а остро отточенный карандаш, с почти болезненной точностью выводила последние, решающие штрихи на огромном листе ватмана, расстеленном перед ним. Это был Генеральный план. Не эскиз, не теория, а плоть и кровь его идей, рожденных в спорах с Орловым и выстраданных здесь, на валах Осовца. Каждая линия – будущий бруствер, каждый условный знак – дзот или артиллерийская позиция. Он не чертил – он творил. Создавал не статичную крепость, а тот самый «живой организм» обороны, который когда-то бросил как вызов маститому профессору.
Солнечный луч, упершись в белизну бумаги, заставлял чернила и графит отсвечивать серебром и сталью. В этих линиях уже не было абстракции. Он видел за ними не просто укрепления – он видел солдат у орудий, слышал грохот разрывов, чувствовал на себе безразличный взгляд темных глаз из лазарета. И каждый его расчет, каждая выверенная до миллиметра деталь были теперь не триумфом мысли, а щитом. Щитом, который он с таким отчаянным упорством пытался возвести между войной и той единственной, подлинной реальностью, что нашел в этом гиблом месте.
И когда он с сухим щелчком отложил карандаш, в наступившей тишине прозвучал не финал, а первая нота грядущей битвы. Планы были готовы. Теперь предстояло бросить их, как вызов, и миру за стенами комнаты, и собственной судьбе.
Его расчёты – это не сухая теория, оторванная от земли. Они пропитаны запахом осовецкого грунта – влажного песчаника и упрямой глины. В каждой кривой, в каждом указанном угле обстрела учтено каждое дельное замечание капитана Витковского, выстраданное годами рутинной службы. Мысленно Кирилл снова и снова благодарит этого невозмутимого капитана за его молчаливый практицизм, превращающий гениальные абрисы в рабочие чертежи. Эти листы – странный сплав его летящей вперёд мысли и приземлённой мудрости Витковского, союз, рождённый не в кабинетах, а на пыльных валах под хмурым небом.
Взгляд Кирилла, оторвавшись от ватмана, сам собой скользнул к окну. За стеклом, в зыбком мареве полуденного зноя, стояло невысокое, строгое здание лазарета. За последние недели он с педантичностью инженера нашёл и испробовал ровно дюжину официальных, безупречных причин бывать там. Нужно было согласовать разметку подземных ходов, ведущих к убежищам, проверить тягу в новых вентиляционных шахтах, оценить ёмкость палат на случай массового приёма раненых. Он являлся с планами и циркулем, говорил сухим, деловым тоном и краем глаза, с жадностью вора, ловил её появление.
Он видел, как её тёмная голова, всегда в белоснежной косынке, склонялась над перевязочным столом; как её тонкие пальцы, не знающие дрожи, вскрывали упаковки со стерильным бинтом; как она, не поднимая глаз, отдавала тихие, чёткие распоряжения санитарам. Она отвечала ему так же – коротко, по делу, без взгляда. Её «Так, поручик» или «Я доложу старшему врачу» обжигали его сильнее, чем любое пренебрежение Зарубина. Он, чьи идеи заставляли прислушиваться самого Орлова, стал для неё лишь источником административных помех, шумом за дверью её царства боли и милосердия.
И тогда, вернувшись в свою душную комнату-чертёжную, он с новой, почти яростной энергией бросался к своим планам. Теперь он укреплял траверсы и увеличивал толщину бетона не только для Империи. Он рассчитывал глубину убежищ, думая о том, чтобы своды выдержали самый страшный удар именно над лазаретным корпусом. Он чертил систему вентиляции, представляя, как под землёй, в чистом, отфильтрованном воздухе, будут дышать её пациенты. Его гений, его одержимость нашли себе новую, сокровенную и безнадёжную цель: построить для неё самую безопасную крепость в мире – крепость, о существовании которой она, вероятно, даже не догадывалась.
И сейчас, глядя на законченный генеральный план, он видел в нём не только триумф инженерной мысли. Он видел немое, отчаянное признание. Каждая линия на этой бумаге была обращена к ней. Каждый расчёт был попыткой хоть чем-то – пусть безмолвным, пусть неоценённым – защитить ту хрупкую, невероятную жизнь, что билась за других в сотне шагов от него, за стенами, которые он поклялся сделать неприступными.
Эти визиты стали для Кирилла странным, мучительным ритуалом. Война с немцами, прежде абстрактная грозовая туча на политическом горизонте, с каждым днем обретала плотность и вес. Теперь ее дыхание чувствовалось во всем: в учащенных курьерских рейсах, в ящиках с оборудованием, появляющихся на плацу, в оборонительных работах, что велись уже не по учебникам, а с лихорадочной поспешностью. И в этой сгущающейся атмосфере грядущей бури его деловые визиты в лазарет казались единственным островком личного, пусть и выстроенного из сухих отчетов и чертежей.
Он являлся с новыми схемами вентиляции, с расчетами пропускной способности подземных ходов, ведущих к операционной. Каждый раз встреча была одинаковой: она выслушивала его, стоя прямо, в безупречно свежей косынке, ее руки спокойно сложены перед собой. Ее ответы – точные, лаконичные, лишенные эмоций. «Так, поручик». «Это будет учтено». «Благодарю».
Но Кирилл, чей ум был настроен на расшифровку сложнейших систем, начал с болезненной остротой улавливать мельчайшие нюансы в ее реакции. Он научился читать едва заметное движение ее темных, всегда спокойных глаз. Вот, когда он предложил перенести вход в запасное убежище, чтобы избежать сквозняков в палате для тяжелораненых, в ее взгляде на секунду мелькнуло легкое одобрение. Не улыбка, не слово – лишь мгновенная вспышка понимания, что перед ней не просто офицер, отбывающий повинность, а человек, мыслящий сходными категориями эффективности и заботы.
Однажды, в ответ на его вопрос о необходимом запасе перевязочных материалов, она, вместо сухого перечня, вдруг тихо сказала: «Рассчитывайте на вдвое больше, поручик. Цифры в штабных бумагах всегда меньше реальной крови». Это была не просьба, а констатация горького факта, и в ее голосе он впервые уловил не профессиональную холодность, а тяжелую, усталую правду, созвучную той, что когда-то поведал ему полковник Семенов.
Эти крошечные знаки, эти крупицы неформального контакта становились для него ценнее любой похвалы генерала. Он ловил их, бережно собирал и уносил с собой, как талисманы. Они питали его одержимость, придавая ей новый, тревожный смысл. Он уже не просто строил оборону для некой абстрактной Ли Цзи – легендарной героини. Он старался для этой вот женщины, с усталым взглядом и низким, ровным голосом, чья профессиональная броня иногда давала едва заметные трещины. И каждый новый чертеж, каждая усовершенствованная им деталь укреплений были теперь не только вызовом Зарубину и войне, но и немым вопросом, обращенным к ней: «Замечаешь? Видишь, что я делаю?». Ответом была все та же сдержанная вежливость, но теперь за ней ему чудилось молчаливое, напряженное внимание, столь же глубокое и невысказанное, как и его собственная к ней тяга.
И эта мысль – жестокая, наивная, всепоглощающая – жила в нем, как тайная болезнь. Он, чей разум привык подчинять себе абстракции, вдруг с отчаянным упрямством взялся за самую сложную и неподдающуюся задачу – растопить лёд сердца Ли Цзи.
Его расчеты, его чертежи, его бесконечные усовершенствования обороны крепости постепенно превратились в странную, тщательно зашифрованную серенаду. Каждый спроектированный им безопасный коридор был не просто инженерным решением – это была метафора пути к ней. Каждая усиленная балка над лазаретным крылом – не только защита от снарядов, но и немое обещание: *я создам для тебя убежище, я укрою тебя от всего ужаса этого мира*.
Он ловил её редкие, скупые взгляды, искал в них не одобрение коллеги, а проблеск чего-то личного. Её ровный, бесстрастный голос он слушал не только для получения информации, но как музыку, выискивая малейшие колебания, смягчения интонации. Он начал замечать мельчайшие детали: как она поправляет прядь волос, ушедшую под косынку, как чуть сжимаются губы, когда она устала, как тонкие морщинки у глаз говорят о бессонной ночи больше, чем любые жалобы.
И он пытался – робко, неумело, с наивностью гения, не знающего поражений. Он задерживался после доклада на лишнюю минуту, надеясь, что она оглянется. Подбирал слова, которые могли бы вызвать у нее не деловой ответ, а что-то человеческое. Однажды он принес в лазарет папку с чертежами и среди сухих схем вложил засушенный цветок иван-чая, сорванный у крепостного вала. Нелепый, детский жест. Она развернула папку, ее взгляд на секунду задержался на хрупком сиреневом лепестке, и… она просто отложила его в сторону, как сор, и погрузилась в изучение схем. В тот вечер он вернулся в свою каморку с ощущением, будто получил пулю в сердце.
Но он не сдавался. Его упорство, с которым он брал штурмом интегралы и фортификационные преграды, теперь было направлено на нее. Он хотел пробить эту стену молчаливого долга, найти за ней живую, теплую, уязвимую женщину. Он, видевший суть вещей, был слеп в одном: он не понимал, что ее холод – не броня, а сама плоть ее души, выкованная в горниле настоящего, а не вымышленного страдания. Он хотел растопить лёд, не осознавая, что в его сердцевине – не вода, способная смягчиться, а алмаз, который можно только разбить, но не согреть.
Кирилл отложил карандаш. Звук, сухой и четкий, прозвучал как выстрел, возвещающий конец долгой битвы. Перед ним лежал Генеральный план модернизации обороны Осовца. Испещрённый линией и цифрами, дышащий холодной логикой, он был одновременно и триумфом инженерной мысли, и горячим, бьющимся свидетельством его метаморфозы.
Этот план был плотью от плоти крепости. В нём учитывался не только тип грунта и угол падения снарядов, но и практицизм Витковского, и молчаливое сопротивление Зарубина. Здесь были ответы на все возражения, предвосхищены все «но» и «это невозможно». Он был выстрадан здесь, на этих валах, пропущен через сердце, пропитан запахом земли и пороха. Он был доказательством самому себе и всему миру, что Кирилл Львов – не столичный теоретик, а человек дела, способный свои дерзкие идеи воплотить в суровой реальности.
И в этом его главная, сокровенная ценность. План был немым, грандиозным посланием ей.
Каждый усиленный каземат, каждая продуманная система вентиляции, каждый безопасный маршрут эвакуации – всё это было буквами в гигантском письме, адресованном Ли Цзи. Он не просил слов, не ждал взгляда. Он создавал для неё неприступный ковчег. Он говорил с ней на единственном языке, который, как ему казалось, она могла понять – языке безмолвной эффективности и абсолютной защиты. *Смотри*, – кричали эти линии, – *я могу построить нечто реальное. Я могу оградить тебя от бури. Я – не просто мальчик с пером, я – инженер, чья мысль способна менять мир, и весь этот изменённый мир – для тебя*.
Он встал, и кости затрещали от усталости. Комната плавала в мареве зноя и бессонницы. Он подошёл к окну. Лазарет стоял, озарённый закатным светом, его окна горели, как суровые, не моргающие глаза. И он знал – завтра он понесёт этот план на утверждение. Он вступит в новую битву с Зарубиным, с косностью, с неверием. Но теперь у него была не просто идея. У него была крепость, которую нужно было отстоять. И была она – молчаливая, недосягаемая, единственная причина, по которой вся эта гигантская работа имела для него смысл, выходящий за рамки долга и чести.
Кирилл шёл по коридорам штаба, прижимая к груди толстую папку с чертежами. Под суконной тканью мундира бешено колотилось сердце – не от страха, а от сжатой, готовой разрядиться энергии. Он нёс не просто бумаги – он нёс выстраданную истину, сплав математики и боли, рождённый в бессонных ночах и на пыльных валах.
Дверь в кабинет Бржозовского открылась с тихим щелчком. Генерал сидел за своим аскетичным столом, погружённый в изучение карты. Его фигура, сухая и подтянутая, казалась вырубленной из того же гранита, что и стены крепости. Он поднял голову. Встретил Кирилла с привычной, отточенной сдержанностью, без тени приветствия. Но в его цепком, всевидящем взгляде, скользнувшем по лицу поручика и по объёмной папке в его руках, читалось острое, профессиональное любопытство.
– Ваше превосходительство, поручик Львов, – отчеканил Кирилл, замирая по стойке «смирно». – Разрешите представить на ваше рассмотрение план модернизации обороны цитадели.
Бржозовский молча указал жестом на свободный стул. Кирилл разложил чертежи на столе, и комната наполнилась сухим шелестом ватмана. Генерал наклонился. Его взгляд, холодный и методичный, как штык, начал свой обход. Он скользил по линиям редутов, укреплённых траверсов, новых подземных коммуникаций. Он изучал не рисунок, а мысль, стоящую за ним. Он видел расчёты, примечания, ответы на возможные возражения, вынесенные на поля.
Минуты тянулись, наполненные густым, давящим молчанием. Кирилл, не смея дышать, ловил малейшую тень на лице коменданта – сужение глаз, легкое движение брови, едва заметное касание пальцем какой-либо детали. Это был суд. Молчаливый и беспристрастный.
Наконец Бржозовский откинулся на спинку стула. Его пальцы сложились домиком перед собой.
– Обоснуйте, – произнёс он своё коронное слово. Одно-единственное, которое значило больше, чем часовая речь.
И Кирилл начал. Голос его, вначале слегка сдавленный, быстро набрал силу и уверенность. Он не доказывал, он просто водил пальцем по чертежу, и стены кабинета будто раздвигались, уступая место оживающим укреплениям. Он говорил о слабых местах, которые Зарубин предпочитал не замечать. О новых типах блиндажей, способных устоять под огнём тяжёлых гаубиц. О системе фильтрации, которая могла бы спасти десятки жизней при газовой атаке. Он говорил о войне не как о подвиге, а как о гигантской инженерной задаче, где счёт идёт на сантиметры бетона и кубометры чистого воздуха.
Бржозовский слушал, не перебивая. Его каменное лицо оставалось непроницаемым. Но когда Кирилл, закончив, умолк, в кабинете повисла пауза, иная, чем вначале – тяжёлая, насыщенная смыслом.
– Зарубин будет против, – наконец констатировал генерал, глядя прямо на Кирилла. В его голосе не было ни одобрения, ни осуждения. Была лишь констатация факта, одного из многих в уравнении под названием «война».
– Я знаю, ваше превосходительство, – твёрдо ответил Кирилл.
Бржозовский медленно кивнул. Его взгляд снова упал на чертежи, на этот сплав юношеской дерзости и зрелой, почти пугающей прозорливости.
– Оставьте. Я изучу, – он сделал лёгкий жест рукой, и аудиенция была окончена.
Кирилл вышел, чувствуя, как дрожь отступает, сменяясь странным, оглушающим спокойствием. Первый, самый важный рубеж был взят. План лежал на столе у коменданта. И в этих сложных, строгих линиях осталась зашифрованной и его главная, сокровенная битва – битва за право защитить ту, чьё безразличие стало для него единственной точкой опоры в надвигающемся хаосе.
Кирилл вышел из кабинета Бржозовского в странном состоянии – между головокружительной легкостью и тяжким, давящим ожиданием. Дверь закрылась за ним с тихим, но окончательным щелчком, отсекая его от его творения. Он оставил там часть своего разума, свою одержимость, свой вызов – всё, что было вложено в эти испещренные формулы листы.
Он медленно шел по коридору, и ступени под ногами казались не такими уж и твердыми. В ушах еще стояла собственная, уверенная речь, но теперь ее эхо звучало тревожно: а вдруг он что-то упустил? Какую-то деталь, какой-то расчет, который для него очевиден, а для генерала станет поводом отложить всё в долгий ящик? Он мысленно пролистывал страницы плана, как заклинание, проверяя себя на прочность.
Руки его, лишь несколько минут назад сжимавшие папку с почти священной уверенностью, теперь ощущали пустоту и легкую дрожь. Адреналин, питавший его во время доклада, отступал, обнажая нервную усталость многих недель. Он чувствовал себя как часовой, покинувший свой пост, – и ответственность никуда не делась, но теперь всё было вне его контроля.
Его шаги сами понесли его не в казарму и не на валы, а туда, откуда был виден лазарет. Он остановился в тени арочного прохода, закурил, чтобы занять чем-то руки, и уставился на то самое окно, за которым, как он знал, кипела ее жизнь, не зависящая от его чертежей и одобрений генералов.
Ирония ситуации обжигала. Он только что представил план, способный изменить судьбу крепости, возможно, спасти сотни жизней. Но единственное, о чем он мог думать сейчас – заметит ли она когда-нибудь разницу? Поймет ли, что камень, который завтра, может быть, начнут класть саперы, – это не просто камень, а немое свидетельство его чувства?
Слова Бржозовского «Зарубин будет против» отдавались в нем не угрозой, а вызовом. Хорошо. Пусть будет. Эта борьба с косностью и рутиной стала для него еще одним фронтом, еще одним рубежом, который нужно было взять. Но на этом фронте он сражался не за идею, и даже не за Империю. Он сражался за право стоять здесь, в нескольких метрах от нее, и знать, что сделал всё возможное, чтобы над ее головой был самый прочный бетон, а в ее палаты поступал самый чистый воздух.
Он бросил окурок и растер его сапогом. Ожидание было мучительным, но в нем родилась новая, стальная решимость. План лежал у Бржозовского. Теперь всё решало время. А он привык ждать и работать. Работать для нее.
Через несколько дней, наполненных мучительным ожиданием, Кирилла вновь вызвали к коменданту. Бржозовский сидел за своим столом, и перед ним лежали те самые чертежи, но теперь они были испещрены пометками и резолюциями.
– Ваш план имеет рациональное зерно, поручик, – голос генерала был сух и ровен, без тени похвалы. – Рискованно. Дорого. Вызовет бурю негодования. – Он отложил чертёж и уставился на Кирилла своим пронзительным взглядом. – Но другого выхода я не вижу. Старые методы нас похоронят.
Сердце Кирилла ёкнуло, замерло на секунду.
– Выделяю вам людей. Один сапёрный взвод. И ресурсы. По минимуму. На пробу. – Бржозовский поднял палец, и его голос зазвучал, как сталь. – Но предупреждаю. Зарубин будет драться за каждый кирпич, за каждый мешок цемента. Он и его сторонники уже шепчутся у меня за спиной. Говорят, что я доверяю судьбу крепости мальчишке-выскочке.
Он откинулся на спинку стула, и в его глазах вспыхнул холодный, предостерегающий огонь.
– С этого момента, поручик, ваша война начинается не на валах, а здесь, внутри. Будьте готовы отстаивать каждую линию на ваших чертежах. Каждую цифру. Каждое решение. Если дрогнете – они вас сожрут. Я не смогу вас защитить, не подрывая собственный авторитет. Понятно?
– Так точно, ваше превосходительство! – голос Кирилла прозвучал твёрже, чем он ожидал. Внутри всё сжалось в тугой, стальной пружине. Это был не просто приказ. Это был вызов. Вызов, которого он жаждал.
– Добро, – кивнул Бржозовский. – Действуйте. И помните – я дал вам веревку. Не позволяйте им сделать из нее петлю.
Кирилл вышел из кабинета, ощущая на себе тяжелый, испытующий взгляд коменданта. Он получил своё. Теперь всё зависело от него. Впереди была не только инженерная работа, но и битва воли, битва авторитетов. И он был готов к ней. Каждая линия на его чертежах была выстрадана и выверена. Они были его щитом и его оружием. И он был готов сражаться за них. Не ради карьеры, не ради славы. Ради той хрупкой, но несгибаемой реальности, что ждала его в лазарете, ради возможности смотреть в её глаза, зная, что он сделал всё, чтобы этот лучик спокойствия в аду надвигающейся войны не погас.
Глава 2
И вот первые работы начались на Центральном форту. Воздух, пропитанный запахом влажной земли и извести, звенел от звенящих ударов кирок, скрежета лопат и отрывистых команд. На площадке царила напряженная, но деловая суета. Солдаты саперного взвода, выделенного Бржозовским, под руководством сержанта рыли траншею для нового, более глубокого фундамента под артиллерийскую позицию.
Кирилл и Витковский стояли в самом эпицентре, склонившись над разложенным на ящике из-под снарядов чертежом. Капитан, по привычке скептически хмурясь, тыкал заскорузлым пальцем в схему.
– Здесь грунт воды боится, поручик. Надо дренажную канаву глубже, иначе весной всё всплывет, как пробка.
– Согласен, – Кирилл тут же делал пометку на полях. – Углубим на полметра и укрепим фашинами.
Их взаимодействие было отлажено, как работа часового механизма. Теория Кирилла проверялась и тут же корректировалась практическим опытом Витковского. Они были не начальник и подчиненный, а соратники, спаянные общей, рискованной целью.
И за этим всем, с высокого вала старой части форта, наблюдал полковник Зарубин. Он стоял, небрежно опершись на трость, его лицо искривляла холодная, самодовольная усмешка. Он не просто наблюдал – он выжидал. Его взгляд, тяжелый и предвкушающий, скользил по рабочим, по инженерам, выискивая малейший сбой, первую прореху, первую трещину в этом «гениальном» плане. Он ждал провала. Ждал, когда эти мальчишки сами докажут его правоту, когда грунт осыплется, или бетон не схватится, или просто всё встанет из-за какой-нибудь элементарной ошибки.
Его присутствие витало в воздухе незримым, но ощутимым грузом. Солдаты, чувствуя на себе этот испепеляющий взгляд, работали молчаливей и напряженней. Даже Витковский, обычно невозмутимый, пару раз резко обернулся, почуяв на себе тяжелый взгляд.
– Не обращайте внимания, капитан, – тихо, но твердо сказал Кирилл, продолжая делать расчеты. – Пусть смотрит. Нам нужен результат, а не его одобрение.
Он сам чувствовал этот взгляд на своем затылке, жгучий, как раскаленное железо. Но вместо того, чтобы сжиматься от страха, он лишь выпрямлял спину. Каждый удар лопаты, каждый четкий приказ Витковского, каждый ровный выкопанный аршин траншеи был его ответом. Они не просто рыли землю. Они возводили баррикаду – не только против будущего врага, но и против косности и злорадства, олицетворенных фигурой на валу.
И работа продолжалась. Медленно, метр за метром, преодолевая сопротивление векового грунта и незримое, но ощутимое сопротивление своих же. Это была первая схватка, и Кирилл был полон решимости выиграть ее. Он отстаивал не просто траншею – он отстаивал право на будущее, которое нарисовал на своих чертежах. Будущее, в центре которого стоял хрупкий, несгибаемый силуэт в белой косынке.
Кирилл стоял перед схемой укреплений, и его взгляд раз за разом возвращался к одному и тому же каземату – не самому мощному, но стратегически удачному, с удобными подходами и надежными сводами. Мысль, выношенная за бессонными ночами, наконец оформилась в четкое решение: здесь должен быть передовой перевязочный пункт. Не просто щель с бинтами, а полноценный медпункт, способный принять раненых под огнем, стабилизировать их состояние до эвакуации в основной лазарет.
Но чертеж оставался лишь чертежом. Он понимал: чтобы это работало, нужен экспертный совет медиков. Нужно знать, как расположить столы, где хранить кровоостанавливающие, как организовать свет при отключенном электричестве, сколько нужно бочек воды. Теория бессильна без практики боли.
Эта мысль вызвала в нем странную смесь страха и решимости. Страха – потому что это означало очередное, уже официальное вторжение в ее пространство. Решимости – потому что это был единственный способ сделать что-то по-настоящему важное для нее и ее работы.